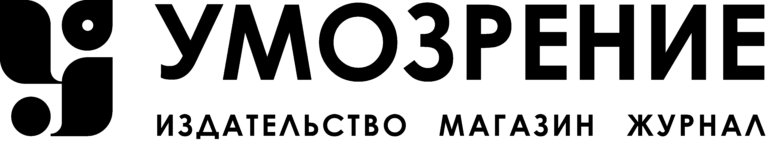Революционно-консервативный характер и идейно-патриотическая природа отечественной культуры у М. А. Лифшица

А. Н. Муравьёв, Санкт-Петербургский государственный университет.
Революционно-консервативный характер и идейно-патриотическая природа отечественной культуры в лекциях М. А. Лифшица «О русской культуре и ее мировом значении»
Лекции «О русской культуре и ее мировом значении» были прочитаны Михаилом Александровичем Лифшицем «для офицеров Военно-морского флота в Ленинграде» [Арсланов 2015, 5] в популярной (не слишком облегченной, однако доступной для этой аудитории) форме. При этом фундамент всех четырех лекций на столь важную тему, датированных августом-сентябрем 1943 г., составила философия культуры Лифшица, внутренне связанная не только с материалистическим пониманием истории Маркса, но и с работами Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, а через них – с предшествующим развитием классической философской мысли. Указанное обстоятельство потребовало от автора предлагаемой статьи дополнить аналитическое изложение основных теоретических положений, выдвинутых тогда Лифшицем и к нашему времени нисколько не утративших своей актуальности, экспликацией этой внутренней связи содержания его лекций с идеей мировой истории и патриотической идеей, как их разрабатывали классики немецкого идеализма.
Мих. Лифшиц о характере и природе отечественной культуры
М. А. Лифшиц начинает свои лекции с тезиса, что русская культура имеет «объективное содержание, являющееся неотъемлемой частью мировой культуры, и притом ее важнейшей интегральной частью» [Лифшиц 2015, 19]. Он называет такое содержание отечественной культуры также ее «идеалом» [Лифшиц 2015, 22] и «национальной идеей» [Лифшиц 2015, 24], которая должна быть осознана и усвоена нашими соотечественниками, прежде всего, учеными. В познании объективной реальности этой идеи исследователь открыто примыкает к старой традиции, ставящей вопрос так: «Не имеет ли культура, созданная нашим народом, какого-то особого самостоятельного, своеобразного исторического и нравственного значения, которое должно оплодотворить дальнейшее развитие всего человечества?» [Лифшиц 2015, 24]. Заданный вопрос, продолжает Лифшиц, не только породил большую литературу на русском и иностранных языках, но и вызвал столкновение двух противоположных направлений отечественной мысли – русского оптимизма, настаивавшего на грандиозности всемирно-исторической миссии нашего народа, и русского пессимизма, отрицавшего его великое призвание. Основное противоречие между названными партиями выразилось в производном от него противоречии, затрудняющем ответ на главный вопрос полемики. Трудность эта заключалась в том, что хотя революционная традиция русской мысли находилась в конфликте с мыслью официально-народной и охранительно-консервативной, защищавшей самодержавное государство, о новом, что предстоит внести отечественной культуре в культуру мировую, говорили преимущественно именно реакционеры, приверженцы старины (такие, как Н. Н. Страхов, Н. Я. Данилевский, оказавший влияние на О. Шпенглера, и К. Н. Леонтьев с его византизмом). Названные сторонники «благостной отсталости страны» [Лифшиц 2015, 30] вместе с тем были искренне проникнуты сочувствием к просвещению, что вызывало похвалу в их адрес у представителей революционного лагеря – Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена. Поэтому, споря между собой о фактах нашего прошлого и настоящего, эти партии были согласны в мысли о будущем русской культуры. «Сравнивая славянофилов и западников, как два лика древнего божества Януса, Герцен указывал на то, что устремления этих двух направлений не были противоположными и подразумевали некую единую истину, которая, однако, по-разному ими воспринималась. И можно доказать, – заявляет Лифшиц, – что славянофильская теория не была просто реакционной, что она не исчерпывалась той формулой возвращения к старине, которую они проповедовали. Так же и западники, высказываясь отрицательно о русской старине <…>, исходили в своей критике из глубочайшего понимания исторической миссии, которая России и русскому народу суждена» [Лифшиц 2015, 30-31]. (В своем предыдущем исследовании, посвященном отношению Михаила Лифшица и Андрея Платонова к русской революции, автор настоящей статьи провел принципиальное различие между реакционным и революционным консерватизмом, тем самым подчеркнув их противоположность. Только что приведенное положение Лифшица, указывающее на единство конечной цели этих противоположных видов консерватизма, дает возможность конкретизировать их отношение, не сводящееся, конечно, к абстрактной противоположности).
Противоречивую позицию самых передовых людей XIX века Лифшиц определил как «позицию борьбы на два фронта». Впервые она была высказана в “Философических письмах” и “Апологии сумасшедшего” П. Я. Чаадаева, а затем получила сильное выражение в критических статьях Н. А. Добролюбова о драматургии А. Н. Островского и особенно яркое – в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. Островский, доказывал Добролюбов, был «выше либерального западничества и своих реакционных друзей из славянофильского лагеря», а Щедрин, беспощадно обличавший наши доморощенные пороки, не прошел мимо пороков, отравляющих западноевропейскую жизнь, сделав отсюда прозрачно ясный вывод, что бытие русского народа необходимо переустроить на таких началах, которые будут свободны от всех недостатков прежней культуры – как от вызванных у него веками холопства, так и от навязываемых ему европейской цивилизацией, ложно принятой за образец «в императорской России великим множеством чиновников, приказчиков, жандармских генералов и прочих персонажей этой иерархии» [Лифшиц 2015, 31]. Благодаря этим противоречиям у наших мыслителей впервые отчетливо проявилось сознание потенциальных достоинств отсталой русской культуры по сравнению с недостатками более продвинутой западноевропейской. Историческая возможность, вызревающая в отечественной культуре, резюмирует Лифшиц свою первую лекцию, есть полностью соответствующая действительному ходу исторического процесса необходимость создания в нашей стране «идеального образца для развития всей мировой культуры» [Лифшиц 2015, 34], отчего проницательный В. Г. Белинский в статье “О сочинениях Державина” назвал Россию страной будущего.
Этот отнюдь не выдуманный идеал требует преодоления абстрактной противоположности между высокой и народной культурой, что полностью соответствует национальному характеру нашего народа, черты которого запечатлелись в выдающихся явлениях отечественной словесности. От русских былин и летописей до произведений Александра Пушкина и Льва Толстого для нее, замечает Михаил Лифшиц, характерна не аналогия, а, напротив, контраст с литературой западноевропейской, где явно преобладала антинародная субъективная и воинственная тенденция противопоставления просветленного личного рыцарского начала темной субстанции крестьянской массы. Наш же «народ входит в историю как земледельческий, мирный, единый сознанием и народной основой <…>, с менее развитой эгоистической свободой личности и сословия» [Лифшиц 2015, 51]. Недаром герои классической русской литературы от Алеко и Онегина до Левина и Нехлюдова есть «индивидуальности, ищущие соединения с материнским лоном, ищущие дорогу к правде и в ходе этих поисков осознающие глубокую пропасть, лежащую между ними и народом» [Лифшиц 2015, 38]. Они потому так страстно стремятся уничтожить эту пропасть, что признают безусловный примат народной силы, общественного начала над личностью. Находясь в некотором противоречивом единстве, говорит Лифшиц в конце второй лекции, черты нашей национальной культуры составляют ее чрезвычайно важную для дальнейшего развития человечества особенность.
О каком же противоречивом единстве идет речь? Отвечая на этот вопрос, Лифшиц утверждает, что глубочайшую народную основу отечественной истории и культуры составляет «архаический государственный быт, мир патриархальный, мир централизованной власти» [Лифшиц 2015, 56], проникнутый «крестьянской идеей» [Лифшиц 2015, 57]. Эта основа роднит Россию с азиатским Востоком вообще и с Китаем в особенности, что справедливо подчеркнул Н. Я. Данилевский, который считал европейничанье самым злополучным из наших недугов. На ее почве возникла даже идеализация крестьянского характера нашей духовной традиции, начатая К. С. Аксаковым вопреки тому, что темных явлений в истории Святой Руси, хорошо известных ему и второму основоположнику славянофильства А. С. Хомякову, было предостаточно. На той же почве выросли реальные фигуры Ивана Сусанина и Кузьмы Минина, равно как идеальные литературные образы старца Зосимы и Платона Каратаева. Именно на этой основе, полагает далее Лифшиц, сложилось противоречивое единство движения снизу и действия сверху – двух полюсов, западного и восточного, принадлежащих отечественной культурной традиции. Оно-то и составляет главную черту ее исторического своеобразия. «Решить вопрос односторонне, сказать, что тот или другой (полюс. – А. М.) является более русским, более характерным для нашей национальной культуры, было бы ложно и неправильно. Неправильно прежде всего это абстрактное противопоставление, постоянно повторяющееся в литературе, особенно XIX века, и в литературе более поздней, даже нашего времени. <…> В нашей истории их взаимная связь и переход одного в другой несомненны и наглядны», – настаивает исследователь [Лифшиц 2015, 64-65]. Развивая свою мысль, он говорит, что конкретное единство полюсов русской культуры в силу своей противоречивости имеет как сильную, так и слабую стороны, которые, будучи неразделимы, переходят друг в друга, делая ее силу слабостью, а слабость – силою. Одной его стороной является сторона революционная, выражающая деревенский идеал патриархального крестьянства, его «глубоко радикальное демократическое начало» [Лифшиц 2015, 68], а другой – сторона консервативная, названная Лениным идеологией Востока и выражающая не менее радикальный отказ этой демократической стихии от городского прогресса. Если выразить эту мысль Лифшица другими словами, то именно противоречивое единство указанных сторон сформировало бескомпромиссный революционно-консервативный характер отечественной культуры. В основе ее революционного консерватизма лежит примитивная местная общинная демократия, которая остро нуждается в развитии и потому претерпевает его в очень чистой форме благодаря усилиям по-восточному централизованной (сначала императорской, а затем и советской) государственной власти.
Выявив противоречивое единство народного движения снизу и правительственного действия сверху, Лифшиц парадоксальным образом заключает, что необходимой предпосылкой всемирно-исторического значения русской культуры выступает, говоря словами Маркса, демократия несвободы. Именно демократия несвободы не дала у нас «сформироваться никаким частным формам полусвободы» – той мнимой, недоразвитой свободы, или квазисвободы, которая восторжествовала на Западе [Лифшиц 2015, 71]. Ею объясняется, почему существование народа не отделилось вечной чертой от существования дворян, по верному суждению Пушкина, а самодержавие, a priori заинтересованное в сохранении status quo, время от времени выступало в России как единственный настоящий революционер. Тем же фактором исследователь объясняет прогрессивную роль православной церкви в старой, допетровской Руси, а также то значение, которое имело в отечественной истории дворянство, выдвинувшее из своей среды Н. И. Панина, декабристов и глубоко народные характеры А. В. Суворова, М. И. Кутузова и И. А. Крылова. Третью лекцию Лифшиц завершает следующими словами: «Благо не в отсутствии свободы, а в отсутствии той полусвободы, в которую отлились формы западноевропейского развития. В нашей стране невозможен был компромисс, имевший место в западноевропейских странах, рано пошедших по пути буржуазного развития. Таково английское развитие и развитие других стран. Развитие этой полусвободы, привилегий стало впоследствии буржуазной свободой имущих классов, приобрело прочные традиции на Западе, традиции местные, традиции сословные, традиции частноправовые, которые создавали устойчивый комфортабельный мир, привыкший к известному уравновешиванию, лишенный резких крайностей нашей истории. Но вместе с тем и менее чреватый благодаря этому радикальным освобождением культуры, радикальным решением всех вопросов» [Лифшиц 2015, 77].
В начале последней встречи со слушателями исследователь в известной мере оправдывает даже крепостное право, так как благодаря ему «русское крестьянство не претерпело собственнического разложения, которое было характерно для крестьянства на Западе» [Лифшиц 2015, 79]. Одним из его последствий явилась та народная упругость, о которой писал Лев Толстой, т. е. неимоверное терпение, выносливость и беззаветная преданность нашего народа своей Родине. Перечисленные черты народного характера свидетельствуют о сохранении русскими непосредственно разумного патриотического умонастроения, восходящего к древним временам их бытия – о том, «как сильно в народе естественное, не проистекающее даже из каких-либо воспитательных мер тяготение к собственной стране, готовность ради нее переносить иногда – и притом даже с полным равнодушием – любые самые тяжелые испытания. Это в значительной степени огорошило немцев, которые, рассуждая на западноевропейский манер, полагали, что там, где оборона будет возможна, будут обороняться, а там, где обороняться нельзя, тут обороняться не будут. У нас же в 1941 году бывало часто наоборот» [Лифшиц 2015, 80].
От этого наблюдения Лифшиц переходит к имеющему принципиальное значение положению, согласно которому в поразительно быстром развитии русской культуры в XIX столетии действовала вполне созревшая к тому времени в недрах народного духа «логика самоотрицания национальной формы». Поясняя это положение, он ссылается на творчество В. А. Жуковского: «Всё, что Жуковский пытался сделать на народный манер, получалось у него не слишком удачно. И наоборот: Жуковский перенес к нам мир западноевропейского романтизма. Перенес превосходно, передал его русской культуре, и это не было развитием из своих национальных корней, как было, например, у Уланда, а было развито на основе опыта всемирной литературы». На опыт других народов русский дух жадно набросился еще в эпоху Петра Великого. «Но мы были бы не правы, – полагает исследователь, – если бы ставили вопрос так, что отход от исконных национальных форм, внедрение в русскую культуру форм международных, нам не принадлежащих, были минусом для национального характера культуры. Нет, национальное самоотречение сыграло большую положительную роль в развитии национальной русской культуры. И оно стало нашей второй природой». Поэтому не у одного Достоевского в его знаменитой речи о Пушкине, но и у Лермонтова, Гоголя, Белинского и Герцена мы «находим одну и ту же мысль об исключительной восприимчивости русского человека к самым различным формам и элементам культуры, принадлежащей разным нациям» [Лифшиц 2015, 83]. В подтверждение тезиса о положительной роли национального самоотречения в развитии всеобщего мирового начала отечественной культуры – самоотречения, которое выявило универсальную одаренность нашего народа, придавшую его развитию недюжинный динамизм и названную Достоевским всемирной отзывчивостью и всечеловечностью, – Лифшиц приводит замечательные слова Белинского из той же его статьи: «Пётр (Великий. – А. М.) выразил собою великую идею самоотрицания случайного и произвольного в пользу необходимого, грубых форм ложно развившейся народности в пользу разумного содержания национальной жизни. Этою высокою способностию самоотрицания обладают только великие люди и великие народы, и ею-то русское племя возвысилось над всеми славянскими племенами; в ней-то и заключается источник его настоящего могущества и будущего величия» [Цит. по: Лифшиц 2015, 83-84].
Но откуда взялась в русском народе эта поразительная способность самоотрицания, ставшая его привычкой, или второй натурой? Этот вопрос возвращает мысль исследователя к полюсам Востока и Запада, которые соединились в отечественной культуре отнюдь не случайно, но, как он уже сказал, в полном соответствии с необходимостью мирового исторического процесса. Поскольку духовный процесс мировой истории развертывается в конкретных природных условиях, постольку наша страна географически с известного времени соединила в себе Европу и Азию, а исторически явилась воплощением противоречия между ними, или конкретным тождеством противоположностей азиатского Востока и европейского Запада. У России две души – азиатская и европейская, утверждал Максим Горький. «С одной стороны, это ее глубокая, восходящая к архаическому восточному быту народность, с другой стороны, ее “западничество”, ее всечеловеческий характер, – соглашается Лифшиц с убеждением Горького, – то обстоятельство, что мы являемся даже более западниками, чем сам Запад. Такими были по крайней мере наши великие писатели XIX века. Да, думаю, и не только одни писатели» [Лифшиц 2015, 88]. В связи с заданным вопросом М. А. Лифшиц напрямую обращается к тому зерну, из которого выросла его, в сущности, революционно-консервативная концепция русской культуры – к работе Г. В. Плеханова “История русской общественной мысли”.
Плеханов, размышляя о причинах революции 1905-1906 годов, указал в своем труде, что ее «взрыв явился результатом сочетания двух сил, совершенно различных по своей природе. Одна из них создана была начавшимся еще в конце XVII в. процессом европеизации России; другую породил наш старый восточный быт. Одна была революционна по своему существу даже тогда, когда избегала всяких насильственных действий, другая сохраняла свой консервативный характер даже тогда, когда проявляла себя самыми резкими насилиями» [Цит. по: Лифшиц 2015, 91]. Переосмысляя это указание Плеханова, Лифшиц отбрасывает ложную дилемму (или отсталая крестьянская Азия, или передовая рабочая Европа), которую тот, догматически восприняв марксизм, выставил вслед за либерально-помещичьей частью нашего западничества и реакционно-либеральной частью славянофильства: «Нельзя рассматривать всё национальное как нечто обособленное, непохожее на общее мировое развитие. <…> В самом деле, отличие наше от Запада в том, что Запад ранее развил формы, которые получили значение форм мировой культуры. Там раньше сформировался мировой рынок, сообразно этому и мировые сношения, связи и культура носили более общий характер, в то время как Московская Русь к XVII веку вступила в стадию известной замкнутости (чего, между прочим, о Киевском периоде сказать нельзя). Такое различие есть. Но можем ли мы согласиться с положением, что старая наша народная традиция, которая действительно имеет корни в восточных элементах нашей истории, целиком и полностью противостоит мировому опыту и традициям европейской России, которая могла развиваться только в резком антагонизме с ней и только как полное ее отрицание? Я думаю, что это не совсем так» [Лифшиц 2015, 91]. Энергия этого мягкого, но решительного возражения вплотную подводит исследователя к формулировке принципа революционного консерватизма русской культуры, который и обеспечил ей всемирно-историческое значение: «Тенденции консервативной народности, которые были налицо в России, хотя и вступали в противоречие с революционным <…> характером развития страны, не могли его остановить, а порою ему и способствовали. Русский революционный размах, тот своеобразный нигилизм, о котором говорила европейская литература XIX века применительно к русским, та свобода от традиций, умение рубить сплеча все те вопросы, в которых путалась европейская мысль, – всё это коренится в радикальности русского крестьянина <…>, который, несмотря на угнетенное свое положение, несмотря на весь свой сплошной быт, стремился к коренному, глубокому разрешению общечеловеческих, социальных, нравственных вопросов» [Лифшиц 2015, 92].
В качестве иллюстрации Лифшиц берет национальный вопрос. Он решался у нас принципиально иначе, чем на Западе, где основными формами подъема личности были формы национально-буржуазные, связанные с международной конкуренцией и торговлей, которые завели Европу в тупик национализма, обернувшегося нацизмом. «В России же этот национальный вопрос всегда принимал совершенно другие формы, и можно сказать, что всечеловечность, о которой говорил Достоевский применительно к Пушкину, соответствует тому отсутствию национализма, которое бесспорно отличает рядового русского человека, обыкновенного крестьянина» [Лифшиц 2015, 92]. Явления националистической ограниченности, у нас, конечно, имеются, признаёт Лифшиц, но – лишь в городах, среди мещан, обывателей, даже интеллигенции. На них и делает ставку гитлеровская пропаганда, стараясь разжечь у советских граждан, оказавшихся в немецком тылу, национальную ненависть, а в толще народа их нет и быть не может. Почему? Потому, что патриотизм и прочное государственное единство у нас сложились гораздо раньше, чем на Западе, и по причинам, сближающим нас с Востоком и античным Римом позднего периода, где «цезаризм проложил дорогу идеям всечеловечности, которые особенно дали себя знать в христианстве» [Лифшиц 2015, 94]. Согласно Лифшицу, существует кардинальное различие между истинным и высоким русским патриотизмом, который сформировался под благотворным византийским влиянием, и ложным по своему характеру патриотизмом западным, ибо последний, несмотря на свои положительные черты, часто опускался до самого беспардонного шовинизма. Этим различием обусловлена и весьма заметная роль в истории русской культуры заезжих мастеров-иностранцев, стремившихся в Россию и весьма плодотворно трудившихся в нашей стране как раз «по свойственной ей черте восприимчивости, по той “восточной” черте приятия самых различных элементов международного опыта, из которых она извлекала всё, что могла, для своего грандиозного прогресса» [Лифшиц 2015, 95].
Подводя общий итог сказанному, Лифшиц подчеркивает, что черты отечественной культуры, самым противоречивым образом соединившей в себе элементы Востока и Запада, не являются чем-то совершенно оригинальным, ставящим ее вне ряда других культур. «Вся сущность здесь в неправильности абстрактного понимания развития прогрессивных мировых форм, в противопоставлении их формам исконной народной и национальной самобытности. Здесь нет на деле никакой отвлеченной противоположности, но налицо нередко глубокая диалектика между отсталостью и передовым характером развития» [Лифшиц 2015, 98].
Идейное основание философии культуры Мих. Лифшица
Проведенная экспозиция основных положений и заключений Лифшица, раскрывающих характер и природу русской культуры, дает возможность перейти к обнаружению внутренней связи этих положений и заключений с идеями мировой истории и патриотизма, значительный вклад в постижение которых внесли великие немецкие идеалисты. Поскольку понятие идеи возникло в ходе истории философии, постольку основные определения идеи по ее форме и содержанию принадлежат классической философской мысли. Каковы же эти определения?
К числу главных определений формы идеи как таковой классическая философия от Демокрита и Платона до Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля включительно относит определения ее бытия, сущности и понятия. Непосредственность бытия, рефлексия, или опосредствование бытия сущностью и, наконец, конкретность понятия сущности бытия вызваны процессом саморазвития идеи, последовательно дающей себе все названные определения. Бытие идеи непосредственно едино, или тождественно с собой, ее сущность раздвоена и существует как различие, развивающееся в противоположность, а понятие ее, преодолевающее, или снимающее эту абстрактную противоположность, подобно христианскому представлению о Боге, триедино, или конкретно. Поэтому саморазвитие идеи через все определения ее бытия, сущности и понятия выступает как процесс противоречия субстанции, т. е. объективной основы всего сущего, и субъекта, постигающего всё сущее как реальность идеи. Это противоречие вечно полагает и, вместе с тем, вечно разрешает себя. На основании вечного процесса идеи, начало и конец которого заключены в ней самой, всегда есть пространство, где разворачиваются реальные процессы вещей и явлений природы. На том же идейном основании всегда течет и никогда не истекает время, в ходе которого происходит развитие реального человеческого духа. Истекает лишь время чего-то конечного, преходящего в его развитии, в том числе и время различных эпох, или царств мировой истории, в процессе которой совершается историческое развитие культуры, или самообразования человеческого рода, равно как и включенное в историю культуры развитие идеи патриотизма.
Рассмотренный с классической философской точки зрения, азиатский Восток был и остается в мировой истории исходной естественной общностью людей, организованной по семейно-племенному принципу. Европейский Запад представляет собою, напротив, разложение их субстанциального единства на множество индивидуальных субъектов, которые обеспечивают свое акцидентальное, случайное существование путем налаживания более или менее необходимых искусственных социальных связей по принципу гражданского общества. Это внешнее государство, – государство нужды и рассудка, как определил систему гражданского общества в § 183 “Философии права” Гегель, не только развязывает все человеческие страсти и интересы, но и по мере возможности сдерживает их формально-правовыми, полицейскими, моральными и нравственно-политическими средствами. Крайним Западом европейского Запада являются Соединенные Штаты Америки. Европейский Союз формировался как противовес этой крайности и с большим или меньшим успехом продолжает играть свою историческую роль под предводительством Германии и Франции. Более чем тысячелетняя история государства российского выступает развитием противоречия между восточным общинным, семейно-племенным и западным индивидуалистическим, общественно-гражданским принципами. Наибольшую напряженность это противоречие между естественным и искусственным началами человеческого общежития обрело в советский период истории России. Ложное, иллюзорное разрешение оно получило после распада Советского Союза и отказа от намеченного им пути развития большинства вступивших на этот путь стран мира. Однако тем самым мировая история отнюдь не кончилась, как показалось Фрэнсису Фукуяме. Она только временно зашла в тупик вследствие ничем не сдерживаемой глобальной экспансии США. Их стремлению к господству над миром сегодня приходится противостоять, одной стороны, России в союзе с Китаем и Индией, самыми крупными и энергично развивающимися странами Востока, а с другой стороны – Западной Европе за исключением Великобритании, покидающей ЕС. Хрупкое равновесие между Западом и Востоком в XXI веке поставлено на карту исламскими фанатиками-террористами, чьи банды находятся под тайным и явным покровительством США, которые пытаются использовать их экстремистские религиозные убеждения в своих геополитических интересах.
Каким же предстоит стать истинному исходу современной мировой ситуации, приближающему достижение абсолютной конечной цели истории мира – сознательно-разумное разрешение в действительном государстве противоречия принципов семьи и гражданского общества? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить историю отношения европейского Запада к России и отношения России к азиатскому Востоку с 1812 по 1949 гг., поскольку именно тогда произошли знаковые, демонстративно указывающие на этот ответ события. В их число, кроме прочих, входят главная роль русской армии в разгроме наполеоновской Франции, Октябрьская революция 1917 г., которая предопределила решающее значение военных успехов СССР в победе над гитлеровской Германией и его активное участие в образовании Китайской Народной республики. К ним нельзя не добавить влияние учения Льва Толстого на формирование мировоззрения Махатмы Ганди и, стало быть, на обретение суверенитета Индией. Эти события мировой истории доказывают ключевое положение России в формировании конкретного единства современного евразийского мира. Они подтверждают, что не зря ее территория соединяет оба континента, на почве которых исторически развивалось человечество. Не зря и немецкий народ, после французов возглавивший, по Гегелю, германское царство мировой истории, в результате Второй мировой войны передал историческую эстафету русскому народу, задолго до этого сплотившему в одно государство другие народы России. Главный урок, который предстоит извлечь из этих и последующих событий нашему народу, состоит в том, что без усвоения вполне разумного философского способа мышления, в результате исторического развития философии достигнутого на почве немецкой культуры благодаря учениям Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, напряженного противоречия между Востоком и Западом в мире вообще и особенно в России благополучно не может быть разрешено. Поэтому Лифшиц, приведя в обширной цитате из «Подростка» слова Достоевского, что Россия живет не для себя, а для мысли, заключает: «Вот некоторым образом почти пророчество относительно миссии русского народа» [Лифшиц 2015, 86]. Решить указанную всемирно-историческую задачу требует от него именно евразийский, западно-восточный характер отечественной культуры – ее, по выражению Лифшица, «резко континентальный климат» [Лифшиц 2015, 102], до предела обостряющий основное противоречие современного мира.
Если после этого обратиться к содержанию названных форм развития идеи как патриотической идеи, то, во-первых, придется сказать, что по ее бытию патриотизм есть любовь индивидов и народов, составляющих человеческий род, к своей Родине. Эта любовь есть разумное чувство непосредственного единства индивидов и народов с определенным местом своего рождения и дальнейшего пребывания на Земле, высокое чувство их интимной привязанности к своим корням. Иными словами, в первом, исходном значении патриотизм есть любовь индивидов и народов к уникальной определенности своего духа, т. е. их стремление утвердить свою неповторимую духовную особенность, или индивидуальность, непосредственно связанную с особенностями окружающей природы, на лоне которой формировался и формируется их дух. Дополняя эти пространственные определения патриотизма его временными определениями, следует сказать, что он есть любовь индивидов и народов, живущих на земном шаре, к своему прошлому и настоящему. Эта любовь вполне естественна и здорова, отчего ее испытывает каждый человек и каждый народ, если он хорошо относится к себе и, следовательно, к тому, что его породило, произвело на свет, ибо без этого его (такого, какой он был и есть) вовсе не существовало бы. Поэтому патриотизм как любовь к своей Родине-матери есть страдательная, жертвенная любовь, отчего обнаруживается она всегда одинаково – в виде самопожертвования индивидов и народов ради своей Родины в случае войн и других катастроф.
Далее, по второму философскому определению формы идеи патриотизма – по определению ее сущности – эта непосредственная любовь входит в фазу рефлексии, опосредствования, или разложения своего единого бытия. Впервые выявляя, таким образом, противоречие развивающейся идеи патриотизма, она по необходимости раздваивается на любовь к своей Родине и любовь к своему Отечеству. Как сущность различна с бытием, сущностью которого она является, так и Отечество, хотя неразрывно связано с Родиной-матерью, но не тождественно ей. Различие между Родиной и Отечеством индивидов и народов выступает как различие между, с одной стороны, их прошлым и настоящим, или тем, чем индивиды и народы были и есть, и, с другой стороны, их будущим, или тем, чем они могут и должны стать. Разумеется, ради этого индивиды и народы не должны сидеть, сложа руки и умиляясь природным красотам своей Родины, а обязаны что-то сделать для своего Отечества, поскольку оно есть будущее их Родины, равно как их самих. Патриотизм как любовь к Отечеству есть поэтому деятельная, творческая любовь. Она есть любовь индивидов и народов к светлому будущему их самих и своей Родины, так как это будущее зависит от того, какими станут эти индивиды и народы – от того, чем они сами сделают себя. Отечество они обретут только при условии, если как порожденные Родиной-матерью они в духе своем станут отцами самим себе и благодаря этому – творцами своего Отечества путем мирного, созидательного труда. Входя во вторую фазу своего развития, нравственное чувство любви к Родине начинает само себе противоречить, ибо оно раздваивается на любовь и ненависть. Любящий Отечество испытывает ненависть не лишь к врагам своей любимой Родины, как в первом, непосредственном значении патриотизма, в котором ненависть к врагам оказывается лишь оборотной стороной любви к своим. Напротив, во втором его значении (более зрелом, чем исходное) любящий любит и в то же время ненавидит уже себя и свою Родину, поскольку их неповторимой особенности присущи не только достоинства, но и недостатки. Поэтому женственно-жертвенная любовь к своей Родине в этом пункте развития патриотической идеи выступает как мужественная ненависть индивидов и народов к своим и ее недостаткам, побуждающая их к превращению этих недостатков в достоинства.
Переходя от этого пункта к определению содержания третьей, высшей формы развития патриотической идеи, нельзя не признать, что по ее понятию патриотизм оказывается еще сложнее, чем по ее сущности, ибо конкретность понятия включает в себя истину бытия и сущности как более абстрактных определений идеи. Поэтому процесс развития идеи патриотизма содержит не только утверждение ее непосредственной определенности и отрицание такой определенности через ее опосредствование, но, сверх того, отрицание этого отрицания. Сущность патриотизма действительно являет себя в разрыве духа индивидов и народов с непосредственностью своего особенного бытия, но разрыв этот отнюдь не является самоцелью, поскольку он происходит ради конкретного соединения особенного духа индивидов и народов со всеобщим, или мировым духом, т. е. с духом человеческого рода как такового. Понятие патриотической идеи выражает высшую цель развития духа всех индивидов и народов – ту идеальную, или, точнее, идейную цель, в мучительном всемирно-историческом процессе достижения которой они все благодаря полаганию своих различий становятся по-настоящему едины и шаг за шагом образуют всесторонне развитое человечество. Эта всеобщая цель реализуется потому, что только болезненное преодоление своих недостатков позволяет особенному индивидуальному и народному духу освободиться от них (так сказать, выздороветь от своих детских болезней), т. е. полностью образовать из себя – себя самого, тем самым став необходимым моментом и ступенью развития мирового духа, или исторически развивающегося человеческого рода. Стало быть, патриотизм в его истинном и наиболее конкретном значении выступает как неукротимое стремление индивидов и народов к преодолению абстрактной противоположности войны и мира, своего и чужого, родного и вселенского, политического и космополитического, национальной и мировой культуры ради достижения их конкретного тождества – тождества обусловленного и безусловного, временного и вечного. Истинный, или вполне идейный патриотизм есть разумное разрешение противоречия любви индивидов и народов к своей Родине и к своему Отечеству. За счет этого противоречия между прошлым, настоящим и будущим индивидов и народов идея патриотизма непрерывно развивается, давая на каждом этапе поступательного исторического шествия обусловленного природой человеческого духа в царство его безусловной свободы необходимые человечеству плоды.
Вот почему русский патриотизм, согласно Лифшицу, даже более высок, чем высокий древний патриотизм, тоже никогда не переходивший в национализм. «Народы-угнетатели древнего мира (империя Дария, империя Александра Македонского и, наконец, Римская империя. – А. М.) сами были несвободны. На них лежало тяжелое бремя собственной деспотической организации с подавлением аристократии, патрициев, с уравниванием различных сословий. Подобная черта была в значительной степени свойственна старой России, то есть Московской Руси, и в еще большей степени послепетровской русской империи. Это было свойством империи, включавшей в свой состав многие угнетенные народы. Но своеобразное историческое счастье, проистекающее из несчастья, состояло для русского народа в том, что и сам он страдал от царского угнетения, от полицейского произвола, то есть от того же самого бремени, от которого страдали угнетенные национальности. Поэтому его освобождение совпадало с освобождением всех этих народов. <…> Счастье русского народа в том, что особенности исторического развития не привели его к убеждению в собственной привилегированности, не создали у него прочного желания господствовать над остальными народами, а наоборот, связали неразрывным узлом собственные его интересы, дело национального освобождения с делом освобождения всех народов» [Лифшиц 2015, 94-95].
Если же теперь соотнести идею патриотизма с идеей истории и ее абсолютной causa finalis, то получится, что по своему историческому уделу русские являются вполне идейными патриотами – патриотами не только идеи своей Родины, но и идеи как таковой, которую субъект познания истины, разумный человеческий дух, постигает в искусстве, религии и философии. Да, их Родиной является Россия, однако их истинным Отечеством, где в будущем будут преодолены и навсегда останутся в прошлом все издавна гнетущие русский народ недостатки, выступает философское познание истины, к которому прокладывало дорогу православное христианство, откуда этот народ почерпнул идею патриотизма и первым развил его до всеобщности его понятия. Поскольку наша национальная особенность всеобща, или всечеловечна, т. е. принципиально ненационалистична и даже антинационалистична, постольку русская национальная идея есть идея патриотизма в его истинном, понятийно-идейном значении.
Мировое значение русской культуры состоит именно в том, что она, преодолевая свою вековую отсталость, становится необходимой формой сохранения и дальнейшего развития всеобщего содержания мировой культуры путем отрицания того отрицания ее высших достижений, которое выразило себя в явлении модернизма. Модернистское отрицание этих достижений, принципиальным противником чего, как известно, был Михаил Лифшиц [См.: Лифшиц 2009, 40-306], по необходимости совпадает с периодом вырождения высокой западноевропейской культуры, названным Хосе Ортега-и-Гассетом восстанием масс [См.: Ортега-и-Гассет 2000, 43-163]. Ее глубокий упадок произошел по причине ее недоразвитости – того полуразвития, о котором неоднократно говорил в своих лекциях Лифшиц. Поскольку возникшая вследствие этого полуразвития верхушечная цивилизация [Лифшиц 2015, 99], или возвышение так называемых «элит» за счет униженного по сравнению с ними в материальном и духовном отношении положения широких народных масс представляет собой главный порок западной культуры, постольку именно России предстоит первой преодолеть его, реформировав свою систему образования на основе классической философии от Фалеса и Парменида до Шеллинга и Гегеля включительно, тем самым соединив непреходящие достижения высокой философской культуры с культурой народа [См. об этом: Муравьёв 2015, 224-234, 258-276, 308-323]. Идейной предпосылкой такой реформации, выражающей зрелую философскую потребность русского духа, явилась классическая русская литература XIX века, гиганты которой (Ф. М. Достоевский, в “Легенде о великом инквизиторе” выразивший необходимость разрешения противоречия исторического христианства, и Л. Н. Толстой в своих многочисленных религиозно-философских сочинениях) инициировали преобразование традиционной православной религиозности в сознательную религию разума [См. об этом: Ломоносов 2014, 142-174, 183-227].
Итак, говоря словами Лифшица, «мы не сторонники особенно резких контрастов. Поэтому идеалом нашим, конечно, является такая гармонизация жизни, такое соединение “сверху” и “снизу”, такое сочетание разумного, культурного и сознательного в направлении движения сверху, которое опиралось бы на активное и достаточно свободное движение снизу. Это наша постоянная цель, постоянное наше стремление, и везде, где мы достигаем хороших результатов, мы имеем подобное сочетание» [Лифшиц 2015, 103]. Этот наш идеал, несомненно, выступает идеалом не только русской, но и мировой культуры, чье будущее революционно-консервативная по своему характеру и идейно-патриотическая по природе отечественная культура представляла и представляет собой в прошлом и настоящем. Когда же мы осуществим ту реформу образования, к которой из глубины веков подвигает нас глубочайшая философская потребность русского национального духа, тогда это будущее навеки отождествится с настоящим «путем конечного разрешения всех напряженностей и противоречий, накопленных историей в прошлом» [Лифшиц 2015, 104].
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Арсланов 2015 – Арсланов В. Г. «Русская идея» марксиста Мих. Лифшица (Идеал русской культуры) // Лифшиц Мих. Очерки истории русской культуры. – М.: Академический проект. 2015. 751 с.
Лифшиц 2009 – Лифшиц Мих. Почему я не модернист? – М.: Искусство XXI век. 2009. 606 с.
Лифшиц 2015 – Лифшиц Мих. О русской культуре и ее мировом значении // Лифшиц Мих. Очерки истории русской культуры. – М.: Академический проект. 2015. 751 с.
Ломоносов 2014 – Ломоносов А. Г. Путь в Софию. Очерки феноменологии русского духа. – СПб.: Издательство РХГА, 2014. 229 с.
Муравьёв 2015 – Муравьёв А. Н. Философия и опыт: Очерки истории философии и культуры. – СПб.: Наука, 2015. 325 с.
Ортега-и-Гассет 2000 – Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Х. Ортега-и-Гассет. Избранные труды: Пер. с исп. / Сост., предисл. и общ. ред. А. М. Руткевича. 2-е изд. – М.: Весь мир, 2000. 704 с.