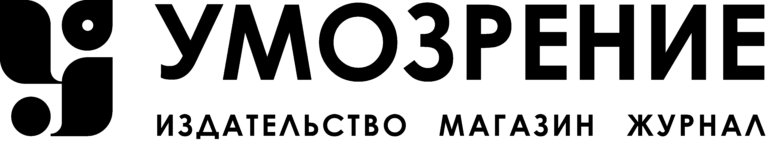Подкасты Умозрения. Диалектика рассудка
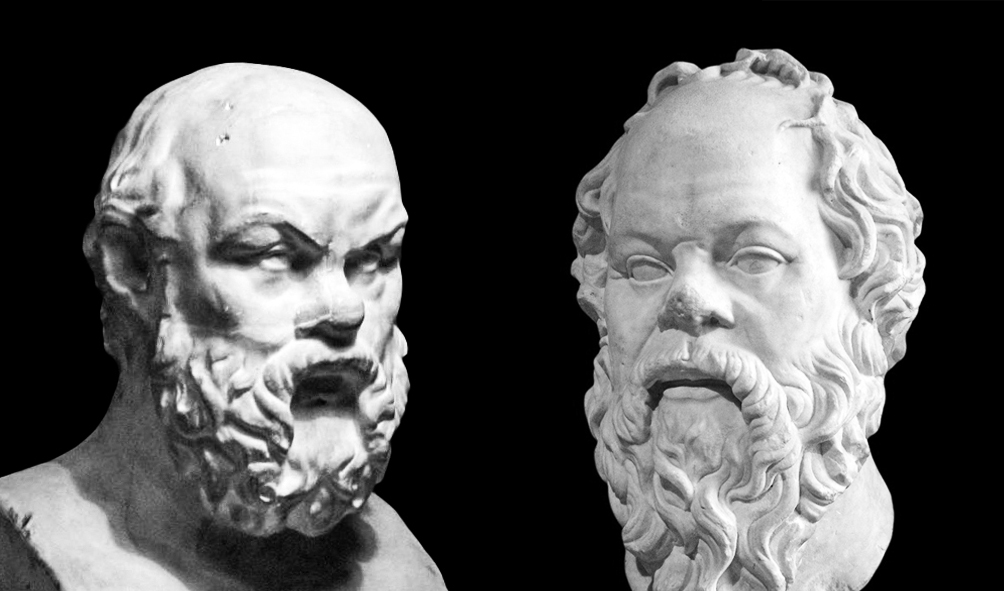
Следующая серия подкастов посвящена роли Сократа в становлении философского познания.
1. Исторический образ Сократа
Первая часть посвящена исторической стороне жизни афинского философа.
Ну, что ж, мы продолжаем нашу историографию разума, и начнем эту серию с краткого итога сделанных им шагов. Эпоха классической греческой культуры, возникшая на почве софистического образования, о котором речь шла в прошлом выпуске, нашла свой центр в Афинах – городе, соединившем собой восток и запад Пелопонесского полуострова. Первые плоды античного просвещения привели к разложению непосредственного народного единства, сохраненного ценой жизни множества греков в борьбе с восточными тираниями. Но вслед за утверждением независимости греческих полисов эллинский дух был расколот гражданской войной на объективно-консервативную аристократию спартанцев и субъективно-прогрессивную демократию афинян[1]. Сторонники противоположных партий присутствовали в каждом городе. Афины во главе с Периклом выражали принцип индивидуальной свободы и следующее из него движение политической власти к открытости, а лакедемоняне стремились сохранить традиционную иерархию, где законы устанавливаются одной или несколькими династиями. Неудивительно, что многознание софистов спартанцами ценилось лишь со стороны исторических сведений, а абстрактное мудрствование о гармонии и числах они полагали несущественным [Гиппий больший, 285c][2]. Так как каждая из сторон этого глубоко идейного конфликта существовала лишь противопоставляя себя другой, то никакое одностороннее его решение принципиально не было возможно. Эта неспособность самого общительного народа античности договориться об истинном modus vivendi вызвала из дебрей непринужденного аттического общения подлинного демона диалога – Сократа.
Сократ стал первым, кто решил взять ответственность, возложенную разумом на себя, и до конца исчерпать разгул силы суждения. Его жизнь стала иллюстрацией всех противоречивых изменений, которые несла просветительская деятельность софистов в демократических полисах. Родившись в семье скульптора Софрониска, Сократ обучился ремеслу отца, но вопреки родовому укладу, не пошел по его стопам, а скорее продолжил дело своей матери – повитухи Финареты. Правда, роды ему предстояло принять не у женщин, а у греческого сознания, активно рожавшего разнообразные представления, уже совершенно не озадачиваясь их истинностью, тем самым размывая объективные границы общественной жизни – законы и традиции. От природы Сократ, по собственным словам, обладал не самими аристократическими задатками, поэтому был вынужден много работать над собой, подчиняя множество естественных склонностей единству воли, и добился того, что сделал добродетель частью своего характера – привычкой. Дисциплина и увлеченность образованием позволили ему сформировать теоретическую серьезность и нравственную невозмутимость, так поражавшую современников. Во время военных походов Сократ стойко переносил все сопутствующее лишения и ободрял этим соратников. Участвуя в Пелопоннесских войнах, он проявил необычайное мужество в сражениях, а при осаде Потидеи спас воспитанника Перикла – Алкивиада [Пир, 220a][3].
Вернувшись с войны, Сократ больше не покидал Афины, за исключением путешествия в Эфес для знакомства с сочинением Гераклита, посвятив оставшуюся жизнь нравственному оздоровлению демократии на родине. Большую часть полученных в походах денег он отдал за обучение Продику – прославленному филологу Греции, но остался не удовлетворен результатом, так как не нашел в формальных ухищрениях софистов ответа на свой главный вопрос: «Что же значит знать?» Простой греческий народ, веря в собственный традиционный уклад и предания, не озадачивался подобной теоретической проблемой. Софисты же, разрушая эту наивную точку зрения, лишь подменяли её другой, столь же шаткой, чтобы стать основательным знанием. Обратите внимание, строго логически, когда мы высказываем свое мнение, мы не мыслим, а представляем, скрывая от самих себя источник нашего убеждения за односторонней абстракцией. Такое состояние Сократ называл невежеством, полагая его детской болезнью души [Алкивиад I, 118a]. В отличие от незнающего, невежественный человек довольствуется собой и не сознает собственной ограниченности, поэтому Сократ не стремился оспаривать мнения собеседников, противопоставляя им свое, ведь всякое заболевание требует диагностики и последующего лечения, а не усугубления симптомов. Таким образом, относительные взгляды человека лишь по видимости становились исходным пунктом теоретических изысканий Сократа, действительным же их источником было само отрицательное беспокойство мышления. Не имея возможности дать положительного определения знания, философ полагал, что знает только одно, что он ничего не знает [Апология Сократа, 21d], поэтому от него не дошло никакого учения или письменного сочинения[4], но благодаря свидетельствам современников мы можем составить достаточно точное представление о характере философствования Сократа, предварительно подвергнув их критической оценке.
Все многообразие взглядов на сократические беседы, как среди современников афинского философа, так и в последующих исследованиях, можно свести к двум основным: историческому и философскому. Первый способ представлен «Воспоминаниями» Ксенофонта, сохранившего внешнюю сторону сократовского образа мышления[5], а второй – диалогами Платона, в которых разворачивается его внутренняя необходимость. Итак, приступим к последовательному анализу каждой из сторон.
Историку Ксенофонту Сократ запомнился разговорами о значении образования, справедливости и блага. На этих трех моментах, представляющих внешнюю сторону жизни философа, мы и остановимся подробнее. Необходимость учиться Сократ демонстрировал юношам, расспрашивая об их субъективных целях и намерениях, которые чаще всего были устремлены к политической карьере. Получая подобные ответы, он спрашивал, что же требуется знать, чтобы выступать в Народном совете? Полезность, справедливость, благо – любое абстрактное убеждение годилось для начала диалога. В ходе дальнейшего разговора Сократ соотносил субъективное представление с определенными обстоятельствами, вскрывая его несостоятельность. Например, в разговоре с Евтидемом он разубеждает последнего в том, что благо заключается в богатстве, ведь, согласно мнению юноши, беден тот, «у кого нет достаточных средств на насущные потребности», а «те, у кого их больше, чем достаточно – богаты»[6], но так как нужды увеличиваются пропорционально средствам, то богатыми скорее стоит признать бедняков, а богатых – бедными. Обнаружение подобных противоречий вынуждало собеседников отказываться от рабской привычки мнить и учиться самостоятельно искать их решения.
По свидетельству Ксенофонта, Сократ не оставлял юношей в таком несчастном состоянии, а начинал учить на свой манер, обсуждая сочинения древних философов и софистов, стремясь при этом пробудить в них живую мысль[7]. Так, в последующих беседах с Евтидемом он предлагает юноше физикотеологическое доказательство бытия богов, разворачивая перед ним упорядоченность отношений в природе и обществе, вынуждая признать единственной её причиной божественный промысел[8]. Стоит отметить, что философ не скрывал своих убеждений, отрицая мнения собеседников. Отстаивая перед софистами объективное значение справедливости, Сократ открыто высказывал свое представление о ней. В разговоре с Гиппием, отказавшимся отвечать на вопросы философа, пока не услышит его мнение о справедливости, он определяет её как законность, которой и сам неуклонно следует. Софист, представляя законы исключительно как общественный договор возражает ему: «Разве можно, Сократ, придавать серьезное значение законам и повиновению им, когда сами законодатели часто отменяют и изменяют их?» Но изменчивость государственных установлений и возможность их нарушать скорее демонстрирует порочность людей, а не законов, так как в последних, выражены не отдельные мнения граждан о справедливости, а неписанный закон конкретного блага, которому подчинен каждый человек. «Платить добром за добро не везде ли признается законным?» – спрашивает Сократ, и отмечает, что за нарушение этого всеобщего принципа лишь по видимости не следует кара, ведь преступившего в последствии «покидают добрые друзья и ему приходиться цепляться за людей, его ненавидящих» [9]. Может показаться, что взгляд философа на справедливость ничем не отличается от наивной точки зрения сограждан, но для Сократа подчинение законам – его свободное решение, не скованное иными обстоятельствами и мотивами. Эта свобода реализовывалась в нем как своеобразная индивидуальность, или даймон, скрытый от бездуховного сознания современников. Если в досократическую эпоху люди обращались за советом не к собственному рассудку, а к оракулам – шелесту листьев священного дуба в Додоне или надышавшейся серными испарениями пифии в Дельфах, то Сократ стал для афинян первым живым выражением духа, правда, в совершенно негативной форме. Ксенофонт приводит нам следующее положение философа в защиту его демона: «Строительство, или кузнечное дело, или вычисления, или экономика, или стратегия – этим делам можно обучиться и человеческому уму <…>; но самое великое в них <…> боги оставляют себе, и ничего из этого людям неведомо. Засевающий прекрасное поле не ведает, кто соберет урожай, строящий прекрасный дом не ведает, кто поселится в нем, ведущий войско не ведает, одержит ли победу, политик не ведает, пойдет ли за ним город; женившийся к своей радости на красавице не ведает, будут ли от неё печали; породнившийся с могущественными людьми в городе не ведает, не лишиться ли он из-за них отечества»[10] Действительно, результат субъективных намерений для отдельного человека никогда неизвестен, так как определен бесчисленными обстоятельствами, поэтому для Сократа обращение к богам необходимо лишь в тех случаях, когда человеческий рассудок не способен чего-либо постичь своими средствами, а для всего остального есть знание. Афиняне, таким образом, видели в философе личный оракул, к которому обращались за советами при принятии решений, и он, в меру своей осведомленности, давал их[11]. Такое отрицательно-разумное отношение к опыту, позволяет анализировать возможный исход индивидуальных решений, но оставляет результат анализа на совести собеседника, что и привело Сократа к трагической судьбе.
Автономия мышления, которую философ отстаивал перед самодовольными афинянами, привела его в суд. Обвинение было представлено защитниками демократического строя: несостоявшимся трагиком – Мелетом, богатым кожевником – Анитом, и ритором – Ликоном. Оно состояло из двух пунктов: «Сократ не почитает богами тех богов, которых почитает город, и вводит новых богов (δαιμόνια); кроме того, он развращает молодежь»[12]. Частные лица не раз на протяжении жизни философа пытались ограничить судебными предписаниями его общительность и пытливость, но сами не могли определить, о чéм ему запрещено говорить с людьми, поэтому все формальные запреты оказывались бессильны[13]. Новые обвинители выражали уже не только частную заинтересованность, но, в первую очередь, обеспокоенность будущим Афин, ведь на смену образов олимпийский богов – олицетворению нравственных сил, которым подчинилась древняя титаническая природа, пришло новейшее божество – всеобщее самосознание, требующее от каждого грека самостоятельного отчета в своих решениях и поступках. Можно сказать, что первая часть обвинения действительно имела место, правда, сам Мелет не мог ясно сказать, что за богов вводит Сократ, и тем более, чем портит молодежь. Этот второй пункт обвинения связан с гетерономной нравственностью афинян, уходящей корнями в семейный уклад. Своим вмешательством Сократ нарушал его, подрывая авторитет отцов перед детьми. Так, Аниту он рекомендовал не отдавать сына в кожевники, видя в мальчике более серьезные задатки, предрекая ему в ином случае порочную жизнь, которой люди заполняют внутреннюю пустоту, возникающую из нереализованного таланта. Ксенофонт замечает, что Анит не внял совету Сократа, и предсказание философа сбылось[14]. Следовательно, и вторая часть обвинения имела место, так как вместе с самыми лучшими сторонами человеческой души самосознание выявляло и самые низменные побуждения. Примером здесь могут послужить Алкивиад и Критий, усвоившие из общении с Сократом отрицательную силу мышления, они сделали её инструментом для реализации своих тиранических амбиций. Таким образом, мы можем заключить, что выдвинутые философу обвинения отнюдь не были беспочвенны, но он был казнен не за них. Дело в том, что на суде Сократ, уже будучи признан виновным, не отступился от моральной свободы и не признал своей вины, отказавшись выбрать себе наказание, предпочтя ему пожизненный обед в Пританее, полагавшийся победителям олимпийских игр. Судьи оказались в положении собеседников философа, вынужденных либо признать правоту его взгляда, а значит ложность всего устоявшегося демократического общежития, либо казнить, стремясь сохранить этот шаткий порядок. Сократа нельзя назвать невинной жертвой обстоятельств, так как он до конца жизни не позволил им определять свою волю и даже свою смерть принял свободно, вынудив афинян обнажить свои истинные намерения и принять ответственность за избранный жизненный путь.
Через несколько лет после казни афинский народ действительно раскается в содеянном. Русское слово «раскаяние» отлично выражает совершившуюся в греческом духе перемену. Придя в нашу речь вместе с евангельскими тестами от древнегреческого «μετωνυμία», оно буквально означает перемену мысли, которая и произошла в сознании афинян после казни Сократа, поэтому Платон в «Апологии» вкладывает ему в уста последнее пророчество: «А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать – когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас возмездие, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, совершая это, вы думали избавиться от необходимости давать отсчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное: больше будет у вас обличителей – тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем несноснее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самосохранения маловозможен и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, осудившим меня, я ухожу от вас» [Апология Сократа, 39c]
На этом мы завершим разбор исторической стороны жизни Сократа, а в следующем выпуске разберем философское содержание его мысли.
[1] Фукидид. История, III, 82
[2] В дальнейшем ссылки на выдержки из произведений Платона в переводе автора будут даваться в тексте с указанием в квадратных скобках названия произведения и страниц по универсальной пагинации. [Ср. Платон. Собрание сочинений в четырех томах, т. 1 // Гиппий больший; изд-во «Мысль», с. 389].
[3] Не случайно в приведенном диалоге Алкивиад сравнивает Сократа с сатиром Марсием – козлоподобным божком, завораживающим слушателей своей игрой на флейте, правда, вместо музыкального инструмента Сократ ограничивается речами. «Когда я слушаю его – говорит юноша, – сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у неистовствующих корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других риторов, я находил, что они говорят хорошо, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабское положение. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, когда мне казалось, что не дόлжно быть жизни, которую я веду» [Пир, 215e]
[4] Хотя Платон свидетельствует, что под конец жизни, уже сидя в тюрьме в ожидании приговора, он взялся за написание гимна Аполлону и переложение басен Эзопа [Федон, 60d]
[5] Идентичную позицию мы можем найти в работах В.С. Нерсесянца, Ф.Х. Кессиди и К.И. Сотонина, Последний даже доводит эту позицию до крайности и видит в учении афинского мыслителя его «личную философию», и хотя признает её всеобще-историческое значение, дальнейшее развитие его мысли считает «двадцатью тремя веками идеалистического бреда» [К. Сотонин. Сократ. Введение в косметику, с. 210 – 221]
[6] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 2; 38
[7] В разговоре с Антифонтом Сократ высказывается о своих занятиях следующим образом: «Как иные любят хорошую лошадь, собаку, птицу, так и я, еще более, люблю добрых друзей, учу их всему хорошему, что знаю, знакомлю их с другими, от которых, думаю, они могут получить нечто полезное для своего нрава. Также книги древних мудрецов, в которых нам оставлены сокровища, я раскрываю и читаю вместе с друзьями, и, если мы находим что-нибудь полезное, мы это усваиваем и полагаем большой выгодой, что становимся друг другу дороги» [Там же, I, 6; 14]
[8] См.: Там же, IV, 3
[9] См.: Там же, IV, 4
[10] Там же, I, 1; 7
[11] Судя по книге «Домострой», относимой многими исследователями к «Воспоминаниям», Сократ чаще разбирался с нравственно-практическими вопросами сограждан, не стремясь положительно определить их теоретическое основание. [См.: Там же, Домострой]
[12] Там же, I, 1; 1
[13] Во время правления Тридцати тиранов, в числе которых были Харикл и Критий, воспитанник Сократа. Стремясь уберечь себя от критических замечаний философа, ему запретил общаться с молодыми людьми, но не смогли разъяснить до какого возраста людей нужно считать молодыми, можно ли расспрашивать их о цене товаров на рынке или отвечать на их вопросы о том, где и кто живет. [Там же, I, 2; 32]
[14] Там же, Защита Сократа на суде, 31
2. Философский поиск Сократа
Во второй части мы затронем непреходящее значение философских бесед мыслителя, сохраненное усилиями Платона.
Итак, в прошлом выпуске мы рассмотрели исторические воззрения на личность Сократа. Чтобы последовательно перейти к философскому содержанию его учения, нам осталось лишь проследить дальнейшее влияние свободы всеобщего самосознания на духовую жизнь греков. Она преломилась в трех сократических школах – мегарской, киренской и кинической.
Мегарики получили свое название по городу, из которого происходил основатель этого течения – Евклид. Они отстаивали рассудочное тождество как единственное условие всеобщего бытия, поэтому заключали, что нельзя назвать человека благим, ведь человек есть человек, а благо есть благо. Характерной чертой этой школы стала изощрённая культура ведения спора, требующая от собеседника только однозначных ответов. Рассудочный подход «или да, или нет» ставил отвечающего перед неразрешимыми парадоксами, получившими следующие названия: «лжец», «скрытый» и «накопляющий», или «плешивый». Первый базировался на вопросе: «Говорит ли правду человек, называющий себя лжецом?» Второй – на определении знания либо как чувственного восприятия, либо как представления, формулируемый как вопрос: «Знаешь ли ты того, кого не видишь?» Третий ставил рассудок перед проблемой перехода количества в качество, спрашивая: «Какая песчинка составит кучу?» или «Какой из выпавших волос сделает человека плешивым?» В каждом случае происходит контрабанда содержания ответа в сам вопрос, поэтому Аристотель справедливо называл подобное мудрствование эристикой, то есть смешением названий вещей с их определениями и возможности с действительностью (См.: О софистических опровержениях, Ι, 24; 79a)[1].
Основатель киренской школы – Аристипп – отталкивался от цели познавательной деятельности – удовольствия, так как критерием познания он полагал действующие на нас аффекты (πάθη) – приятные или же нет. Секст Эмпирик дает лаконичное описание принципа киренаиков: «Из всего сущего аффекты – критерий и цель, мы живем, следуя им, считаясь с наглядностью (ἐναργεία) и одобрением (εὐδοκήσει) – наглядностью в связи с аффектами, а одобрением в связи с удовольствием»[2]. Таким образом, вопрос о теоретическом понятии блага после Сократа был низведен до практики, которая дает лишь относительные ответы, поэтому итогом развития мысли киренаиков становится скептицизм, а в качестве идеала выдвигается безразличие мудреца к любым привходящим аффектам.
Родоначальник кинической школы – Антисфен также сосредоточился на благе для человека, но отстаивал абсолютную свободу самосознания, ограничивая себя в потребностях и довольствуясь самым малым. Подобная аскеза и сознательное отречение, конечно, является необходимым этапом в становлении разумности, но застревая на отрицании она, наоборот, ограничивает мышление данностью, которая вместо освоения только отвергается, а значит продолжает довлеть над субъектом.
Сократические школы, таким образом, представляют из себя популярную и в наши дни болтовню об истинном благе для отдельного человека и идеале мудреца, но в философии речь идет не о подобных абстракциях, а о разуме конкретном для себя, поэтому ни одна их них не развивает философское содержание проблемы Сократа. Исторически же, своей деятельностью они подняли греческий народ на ступень сознания, и в этих трех течениях мы находим высокую индивидуальную культуру мышления, впервые уравнявшую царей и рабов, богатых и бедных, тем самым создав прекрасную почву для заключения всей этой пестроты в методической мысли Платона.
В отличие от остальных последователей Сократа, которые ограничились субъективной формой усвоения открытого им противоречия, Платон не просто записывал его беседы, но осмыслял их, прокладывая путь развитию противоречия всеобщего и единичного. В сократических диалогах мы находим самостоятельное движение вслед за мыслью наставника, благодаря чему не только знакомимся с её историческим явлением, но и постепенно усваиваем сам принцип.
В «Апологии Сократа» Платон сосредотачивается на характеристике принципа учителя. «Я знаю, что я ничего не знаю» [Апология Сократа, 21d] – вот исходная мысль Сократа, принесшая ему славу мудрейшего из эллинов и варваров. Действительное познание, по мысли философа, начинается как отрицание всякой данности, поэтому получить знание из вторых рук принципиально невозможно. Стремясь отыскать кого-то мудрее себя, то есть что-то знающего, Сократ общался с политиками, поэтами и ремесленниками, но ни один из них не мог удовлетворить всеобщий запрос философа. Политики не могли дать определение справедливости, на которую ссылались в обращенных к народу речах, поэты не разъясняли, что за красоту они создают, а ремесленники хотя и знали свою техническую область, но распространяя свое знание на другие сферы жизни путались в противоречиях. Безуспешность этих поисков привела Сократа к следующей дилемме: «Что бы я для себя предпочел: оставаться ли мне так, как есть, ни будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, быть тем и другим?» [Там же, 22e]. В этой постановке проблемы мы встречаем размежевание мнения и мышления, граница между которыми была установлена элеатами и впоследствии размыта софистами. В разговорах с последними Сократ иронически разделяет их мнения о многообразных предметах будь то этимология слов, смысл песен гомеровского эпоса или иных мифологических сюжетов, но, мысля последовательно, приводит собеседников к противоречию. Так, в диалоге «Гиппий меньший», расспрашивая знаменитого софиста о характере героев Илиады, он вынуждает последнего признать, что люди одновременно и честны, и лживы, так как возможность солгать или высказать правду содержится в знании, которым обладают в той или иной мере все. Встретив подобное затруднение, Гиппий уклоняется от дальнейшего исследования, так как оно уже расшатывает его авторитет и устоявшиеся мнения. Софистика, согласно мысли Сократа, не удовлетворяет философского запроса на единство знания, скользя по поверхности множества представлений, поэтому в диалоге с молодыми софистами Евтидемом и Дионисидором он называет их занятия «игрой в познание», которая позволяет только «заигрывать с людьми», подставляя, то одну, то другую точку зрения, не выясняя самой сути предмета [Евтидем, 278b]. Поверхностному анализу явлений Сократ противопоставляет подлинное исследование, объясняя его так: «Когда что-нибудь говорят, я стараюсь мыслить это, особенно если говорящий кажется мне мудрецом; желая научиться тому, о чем он говорит, я расспрашиваю его, пересматриваю все и сопоставляю сказанное с тем, чему учусь» [Гиппий меньший, 369d]. В беседе с Алкивиадом он так же предостерегает юношу от увлечений мудростью софистов и говорит: «Тот же, кто приобрел так называемое многознание и политехничность, но лишен познания тождественного, действует всякий раз, руководствуясь одним из многих познаний, но при этом воистину не пользуется попутным ветром судьбы, ибо он, я полагаю, плывет в открытом море без кормчего» [Алкивиад II, 147a].
В диалоге «Алкивиад» Платон развивает отрицательное начало познания. Общаясь с честолюбивым юношей, Сократ показывает последнему, что стремление к власти чаще всего лишает жизни участников политической борьбы, ведь все наши практические устремления всегда имеют обратную сторону, не зная которой, нам стоит опасаться достижения собственных целей, подобно царю Эдипу, поэтому следует знать, что такое справедливость прежде, чем начинать её отстаивать. В результате Алкивиад вынужден согласится, что ничего определенного о справедливости не знает, но теперь сознает собственное невежество. Такая демонстрация человеку противоречия в его собственных мнениях выводила собеседников Сократа из непосредственной рассеянности в ином и возвращала к рассмотрению себя[3]. «Забота о своём ещё не забота о самом себе» [Алкивиад I, 128d] – полагает философ, и пробудившимся от грез мнимомудрия он предлагает сосредоточиться на познании себя, ведь «когда мы общаемся друг с другом, употребляя при этом логос, это душа относится к душе» [Там же. 130d]. Следовательно, Сократа не интересует что представляет собой собеседник, ведь «когда Сократ беседует с Алкивиадом и употребляет логос, он обращается не к лицу Алкивиада, как кажется, но к самому Алкивиаду, то есть к его душе» [Там же, 130e]. Такие теоретические беседы с целью очищения собственных представлений путем их последовательного соотнесения и доведения до противоречия становятся возможными благодаря точке зрения всеобщего самосознания, на которую поднялась мысль Сократа. Диалог (διαλόγος) – общение, где нет внешних различий между собеседниками, а есть сам логос, содержащийся в душе. Дальнейшее развитие самопознания Сократ видит в умении вести диалог с самим собой, независимо от мыслящего субъекта размышляя о разуме[4], как он есть в душе по своей природе в виде бога, добра, красоты, пользы, справедливости самих по себе. «Можем ли мы назвать более божественное, чем то, о чем есть понимание и разумение? – спрашивает он и заключает – «Значит, самость подобна божеству, и тот, кто всматривается в неё и познает все божественное, бога и разум, тем самым и самого себя познает лучше всего» [Там же, 133с].
Первую попытку исследовать противоречие единичного и всеобщего Платон предпринимает в диалоге «Гиппий больший». Выспрашивая софиста о том, что есть прекрасное (τὸ κάλως), Сократ сразу отбрасывает относительную красоту горшков, лошадей, девушек и других вещей, поясняя, что хотел бы знать «такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным» [Гиппий больший, 291d]. На это Гиппий предлагает ему в качестве определения прекрасного подходящее (τὸ πρέπει), как например человек, надевший подходящий ему костюм, кажется прекраснее, но подходящее производит только видимую красоту, а не действительно прекрасное, и не все люди узнают его, с ним встретившись[5]. Сократ уточняет у софиста, не имел ли тот ввиду пригодное (τὸ χρήσιμος), но пригодное рассмотренное как сила (δύναμις) оказывается причиной как прекрасных, так и безобразных вещей, значит только пригодное для блага, может быть прекрасным, а это полезное(τὸ ὠφέλιμος). Благо, таким образом, выступает причиной красоты, но так как причина и причиненное не одно и то же, Сократ последовательно отбрасывает полезность, не желая отказать прекрасному в причастности благу, и не признавая их тождественность. Следующую гипотезу философ предлагает сам: «Прекрасное есть приятное (τὸἡδύ) зрению и слуху» [Там же, 298a]. Но ощущения в вопросах красоты демонстрируют свое безразличие к предмету и противоречат друг другу, ведь того, что прекрасно для слуха, нет для зрения, и наоборот. На это Гиппий разражается следующей тирадой: «Дело в том, Сократ, что целое вещей ты не рассматриваешь; таковы и те, с кем ты имеешь обыкновение рассуждать, вы исследуете прекрасное и каждое из сущего, разбивая в логосах. Вследствие этого от вас скрыты великие и неделимые по природе телесные сущности. И теперь это скрылось от тебя, и ты полагаешь, что есть или ощущение (πάθος), или сущность (οὐσίαν), либо же они есть вместе, но как отдельные – нет, либо опять, как отдельные, но не вместе» [Там же, 301b]. Этот аналитический способ рассмотрения, который упрекает софист, Аристотель оценивает как серьезный вклад в философию: «Сократ первым направил свою мысль на рассудок, устремленный не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то иному, ибо невозможно дать общего определения для чего-нибудь чувственного, поскольку оно постоянно изменяется» (Аристотель. Метафизика, I, 6, 987b). Но познать всеобщий предмет рассудком оказывается невозможным и единственный вывод собеседников из подобного рассмотрения красоты: «Прекрасное трудно» [Гиппий больший, 304e], поэтому в последующих диалогах Сократ сосредотачивается на поиске особой техники самопознания.
В диалоге «Протагор» Платон исследует возможность делать других лучше (ἀρετή)[6]. Отец софистики отстаивает свое искусство укреплять других в суждении, а Сократ недоумевает, как можно научиться тому, чего не знаешь, и просит Протагора пояснить, чему же он учит. В качестве объяснения софист предлагает миф о Прометее и Эпиметее – братьях-титанах, которым Зевс поручил обустройство Земли. Младшему брату было поручено раздать животным орудия для пропитания и выживания, но по своей рассеянности Эпиметей обделил человеческий род природной силой, что вынудило Прометея украсть в дар людям огонь – источник всех технических умений, а Зевса – распределить каждого умелого в чем-то особенном на множество неумелых. Увидев же неспособность человеческого рода к совместной жизни, он разделил меж всеми правду и стыд (δίκη καιαἰδώς), на них покоится гражданская добродетель и единство государственной жизни. «Поэтому считается, что каждый, каков бы он ни был, вынужден провозглашать себя справедливым, а кто не притворяется справедливым, тот безумен» [Протагор, 323b] – заключает Протагор. Так как общество ревностно хранит свое единство в законе, то всякое его нарушение карается, не с целью мести преступнику, это было бы дикостью, а в стремление воспитать его нрав. Чтобы избежать подобных драматических коллизий, человека с детства учат тому, что хорошо, что плохо, вместе с родной речью, а раз добродетель растворена в общественных отношениях, то научиться ей, полагает софист, не составляет никакого труда, нужно лишь обратиться к нему и внести надлежащую плату. Сократ, следуя за мыслью Протагора, уточняет: «Есть ли добродетель нечто одно, а её части – справедливость, целомудрие (σωφροσύνη) и благочестие, или же все то, что я назвал, – только наименование одного и того же бытия?» [Там же, 329c] Первое оказывается невозможным, так как части во всем отличны друг от друга, но бытие справедливости подобно благочестию, и ни то ни другое, не могут существовать без целомудрия, а значит их единство полагается в знании. «Большинство считает, что знание не обладает силой, чтобы подчинять и начальствовать, потому-то о нем и не размышляет. Несмотря на то, что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание подчиняет, а что-то иное: либо страсть, либо удовольствие, либо скорбь, либо любовь, а чаще – страх – формулирует эмпирический взгляд на познание Сократ, и сразу противопоставляет ему свой, – Знание есть нечто прекрасное и может направлять человека, ведь если ты узнал хорошее и плохое, то ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание, и разум (φρόνησις) достаточно силен, чтобы помочь человеку» [Там же, 352с]. Таким образом, Протагор, отличая добродетель от знания опроверг свою изначальную посылку о том, что может ей научить, а Сократ, настаивая на единстве добродетели и знания, пришел к выводу, что ей возможно обучиться, но не как внешне преподанной, а постигая в разуме[7], поэтому философ заключает свою мысль следующим положением: «Быть ниже самости есть не что иное, как невежество (ἀμαθία), а быть выше самости есть не что иное, как мудрость» [Там же, 358с] Технику, направленную на действительное преодоление невежества, препятствующего познанию истины, Сократ называет целомудрием[8].
Исследованию целомудрия посвящен диалог «Хармид». В нем Сократ выступает в образе врача. Его просят излечить юношу от головной боли (видимо, от длительных размышлений). Философ готов помочь, но оговаривается, что для выздоровления нужен специальный заговор, так как лекарство действует только на целомудренных. С этой целью он спрашивает Хармида, считает ли тот сам себя таковым, юноша затрудняется ответить, ведь не согласись он с этим званием, он бы выставил лжецами присутствующих – своего наставника Крития и других, кто считает его таковым, а назвавшись целомудренным, лишь продемонстрирует свою дерзость. Радуясь такому ответу, Сократ предлагает вместе определить, что есть целомудрие. Первые предположения Хармида о целомудрии как осмотрительности, стыдливости и «своем деле» не проходят сократовской проверки. Осмотрительность (ἡσυχιότης) и стыдливость (αἰδώς) порождают осторожность и нерешительность, а целомудрие часто требует противоположных действий. «Делать свое» (τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν) – не самое ясное выражение, ведь, чтобы определить свое, необходимо знать себя, более того, это положение оказывается высказыванием Крития, которое юноша сам до конца не понимает. Выступая в защиту своего представления, Критий объясняет, что целомудренный человек должен знать себя как такового, и целомудрие есть ничто иное как познание себя, а на дальнейшие просьбы философа определить предмет этого познания, он возражает: «Дело в том, Сократ, что в своем поиске ты пришел к тому, что отличил целомудрие от всех познаний, теперь же ищешь их сходства друг с другом. Однако это не так, все другие познания есть познания иного, а не себя, и только оно одно есть познание познаний и самого себя» [Хармид, 166b]. В ответ философ вновь разворачивает цепочки аналогий, недоумевая, как может быть такое зрение, которое видит себя, другие зрения и слепоту. Признав бытие познания познания, мы были бы вынуждены признать большее само по себе, которое было бы меньше себя. «Какой бы возможности оно в себе ни имело, разве не обретет оно ту сущность, для которой была её возможность?» [Там же, 168d] – спрашивает Сократ. Значит, познание себя должно быть направлено на нечто определенное – на знание и невежество, но, имея дело с иными познаниями, оно переходит границы своего предмета, например, знание врача мы рассматриваем в отношении здоровья и болезней, а не само по себе. Раскрывая логическое содержание целомудрия, Сократ бесконечно доказывает его бытие, но что оно есть по сути определить рассудочно, не может. Он выражает свое затруднение следующим образом: «Здесь требуется, мой друг, великий муж, который мог бы провести все различия и установить, точно ли никакое бытие не имеет своей возможности, которая была бы направлена сама на себя, а не на иное, или же одно её имеет, другие же – нет. И если окажется, что есть то, возможность чего направлена на него самого, значит есть и познание, которое мы считаем целомудрием. <…> Я не верю, что сам смогу в этом разобраться, а потому не буду настаивать, что такое может возникнуть, бытие познания познания, и не допущу также, даже если это в высшей степени вероятно, что таково целомудрие, пока не рассмотрю, полезно ли оно нам как таковое» [Там же, 169a]. Но даже критическая задача целомудрия, по мысли Сократа, может освободить общество от засилья самозванцев и шарлатанов, а «человеческий род будет подготовлен и снаряжен для сознательной жизни и деятельности, а целомудрие, как верный страж, не допустит, чтобы вмешалось невежество и стало нашим помощником» [Там же, 173d]. Несмотря на эту явную пользу искомого познания, его предмет, вновь ускользает от собеседников, поэтому Критий предполагает, что целомудрие познает благо и зло, но философ возражает, что это дело практики, ведь никаких конкретных благ познание познания не приносит. Зайдя в тупик, Сократ возвращается к изначальной посылке и признает, что рассуждение велось непоследовательно: «Так, познание познания есть целомудрие – признали мы, хотя логос нам этого не позволял; мы также приняли, что это познание ведает иными познаниями (хотя и это не логично), дабы у нас получилось, что целомудренный, будучи знающим, знает то, что он знает, и не знает того, что он не знает. С этим мы согласились весьма самонадеянно, не обратив внимание, что невозможно знать то, что вовсе не знаешь, ведь только наше допущение позволяет думать, что можно знать то, чего не знаешь» [Там же, 175с]. Стремясь сохранить отрицательную посылку познания, Сократ не может определить предмет философии и соглашается скорее признать себя негодным исследователем, чем отказаться от дальнейшего поиска, поэтому говорит Хармиду: «Целомудрие – это великое благо, и, если бы ты обладал им, то был бы блаженным человеком» [Там же, 176a]. Таким образом, исходный пункт сократовских диалогов – знание незнания, не позволяет Сократу исследовать предмет самопознания, постоянно возвращая собеседников к нему как критерию.
Свое умение пробуждать в других самосознание Сократ называл майевтикой (μαίευσις) – техникой родовспоможения душе при рождении мысли. Плод размышлений он обносил над огнем противоречия, проверяя его жизнеспособность, но никогда не удовлетворялся субъективным результатом, в основе которого лежит иная предпосылка. Это вечное возвращение можно понимать как мучительное становление рассудка знающим себя, то есть разумным познанием, которое действовало в Сократе как отрицательная сила – демон, запрещающий ему нарушать границы собственного незнания. Аристотель проницательно указал на эту противоречивость поисков Сократа: «Исследуя добродетель, он был прав в том, что добродетели невозможны без целомудрия, но заблуждался в том, что добродетель и есть целомудрие» (Большая Этика, I, 1, 1182a).
Внутреннее противоречие теоретической мысли приводит Сократа в том числе к неоднозначным практическим результатам. Пробуждая в душе собеседника сознательность, он был не способен указать определенного пути для дальнейшего её развития, что и привело: с одной стороны, к предательству Алкивиада во время Пелопонесской войны, вызванное пробудившейся в юноше самостью; а с другой стороны, к рождению такой великой души как Платон. Из этого внутреннего противоречия философского поиска Сократа становится понятно нежелание греческого народа идти по предложенному им пути, что и послужило предпосылкой трагического события суда над философом и его последующей казнью, которую он сам назначил себе, предпочтя рабской жизни свободу разума.
[1] В дальнейшем ссылки на выдержки из произведений Аристотеля в переводе автора будут даваться в тексте с указанием в круглых скобках названия произведения, номера книги, главы и страницы согласно универсальной пагинации. [Ср. Аристотель. Собрание сочинений в четырех томах, т. 2 // О софистических опровержениях; изд-во «Мысль», с. 578].
[2] Секст Эмпирик. Против ученых, VII, 200
[3] Аналогичное заострения противоречия мнения и мышления можно найти в диалогах «Лисид», «Лахет» и «Евтифрон». В них собеседники, обсуждая тот или иной предмет (дружбу, мужество и благочестие соответственно), стремятся «уловить логосом и высказать, чтό именно он есть» [Лахет, 194b], но достигают только отрицательного результата.
[4] Г. В. Ф. Гегель справедливо отметил это достижение греческого духа: «Познай самого себя – эта абсолютная заповедь ни сама по себе, ни там, где она была высказана исторически, не имеет значения только самопознания, направленного на отдельные способности, характер, склонности и слабости индивидуума, но значение познания того, что подлинно в человеке, подлинно в себе и для себя, познание самой сущности как духа» [Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 3, § 377, с. 6]
[5] В этом моменте диалога Гиппий самоуверенно заявляет, что мог бы, оставшись наедине с собой, разрешить это затруднение с легкостью, но Сократ настаивает на совместном размышление, чтобы избежать мнимых результатов [Гиппий больший, 295a].
[6] Общепринятый в отечественных изданиях перевод этого определения как добродетель не совсем точно передает значение, которое в него вкладывают софисты, так как отсылает к нравственной характеристике, но для древних ἀρετή имело источником не только хорошие поступки, но и мастерство в любом деле.
[7] Таким образом, стремясь определить всеобщее содержание представлений, мы обнаруживаем в них противоречие, и поэтому вынуждены сосредоточиться на собственном способе отношения к ним. Так рассудочная форма мышления впервые становится разумом, в котором мыслимое и мыслящий одно и то же.
[8] В отечественных переводах σωφροσύνη именуется «рассудительностью», похоже с целью избежать христианский коннотаций, связывающих целомудрие с телесной чистотой.