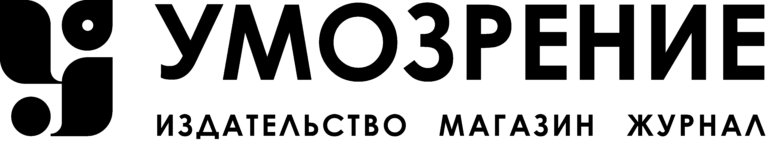Война и мир как проблема Льва Толстого
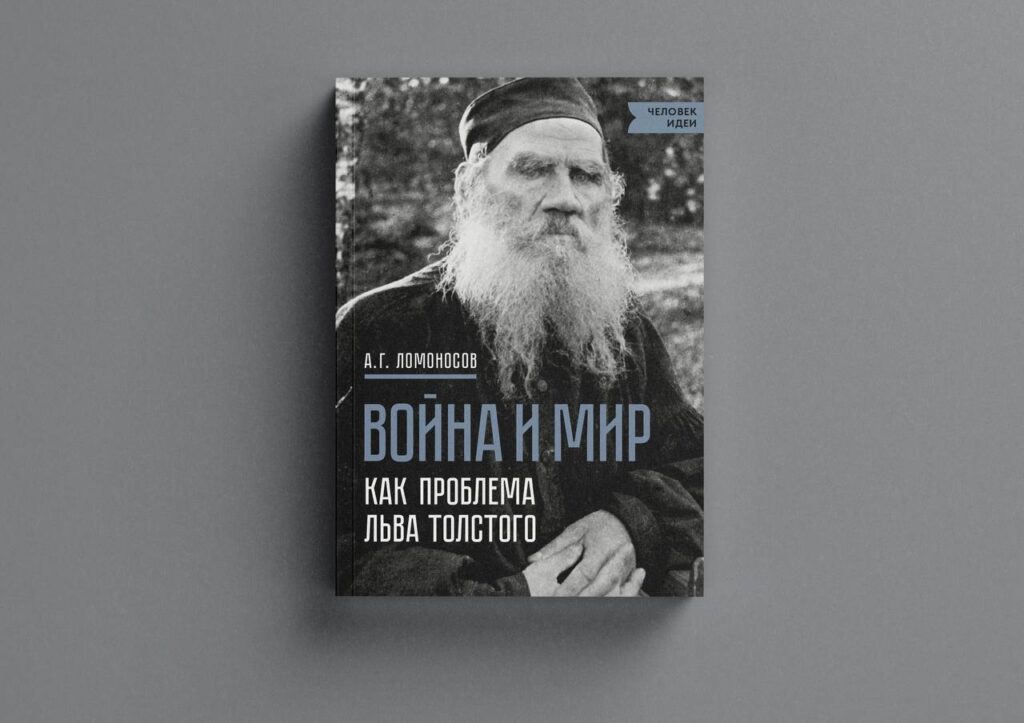
Слово научного редактора издательства «Умозрение» Александра Ломоносова
Уважаемые коллеги, друзья, издательство «Умозрение» перед выпуском в свет книги «Война и мир как проблема Льва Толстого», предлагает своим подписчикам уже сейчас ознакомиться с её весьма актуальным в настоящее время содержанием в электронном виде. В связи с этим я хотел бы напомнить, что первой книгой, которую выпустило издательство «Умозрение» была книга «Л. Н. Толстой. В поисках истинной жизни: религиозно-философские сочинения. СПб.: Изд-во Умозрение, 2015». А затем, что касается работ этого великого русского писателя, вышли в свет его «Народные рассказы» («Л.Н. Толстой. Народные рассказы. СПб.: Изд-во Умозрение, 2018». В этих рассказах и притчах писатель популярно, но в то же время в свете разумного представления раскрывал суть христианского учения). Так что Лев Толстой для Умозрения фигура значимая и неслучайная, и я бы не побоялся заметить, что без его работы мысли, связанной с освобождением духовного начала от телесных условий, совершающейся в жизни человека [89,131], русский дух едва ли смог бы достичь, собственно философского способа познания истины.
Напомню, что Е.С.Линьков в своём феноменологическом введении в философию подчеркивал, что философский способ познания есть результат самоотрицания всех особенных способов духа (См.: Линьков Е.С. Лекции разных лет по философии. – Т.1 СПб.: Умозрение, 2018. С.234). Иначе говоря, разум в своём становлении проходит особенные ступени – опыт в его теоретической и практической форме (читаем у Пушкина: «…и опыт – сын ошибок трудных»), искусство и религия, чтобы стать философским самосознательным разумом. Есть мыслители мирового значения, которые олицетворяют собой существенные моменты истины, или ступени восхождения духа к себе самому, главными представителями этого вселенского процесса у нас являются – М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой и Е.С. Линьков. Хотя, несомненно, что не только один Лев Толстой представлял такую ступень феноменологического развития как разумная религия, ибо к созиданию этой формации, или ступени духа на русской почве причастны, особенно, Ф.М. Достоевский и Н.С. Лесков. Что касается самого созидания, то по этой проблеме у Достоевского в «Бесах» есть такое: «Слушайте, – заявляет Шатов Ставрогину, – добудьте бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете», или «превратитесь в этнографический материал» (так Достоевский развивает эту мысль в «Дневнике писателя»). А в «Идиоте» он устами своего положительного героя князя Мышкина станет говорить об «обновлении всего человечества <…> русским богом и Христом». Писатель особо подчёркивает, что русский православный народ способен создать своё собственное понятие о божественном начале, «своё собственное слово» (ПСС.25,199) и только таким образом он и становится «поклонником Богу в духе и истине» (Ин.4:24). А словами созданного Н.С. Лесковым образа отца Кириака нам передаётся развиваемое им вслед за Ф.М. Достоевским представление о действующем в духе нашего народа русском боге, которому мы и поклоняемся как своей идеи: «Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли; – не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме каждений, а он у нас свой, притоманный».
Критика превратных представлений о Льве Толстом
Итак, мы говорим о Л.Н.Толстом как великом русском религиозном мыслителе (богоискателе, но не только «всем сердцем и всею душою», но и, наконец, «всем разумением своим»), т.е. он для нас не только Лев русской литературы, но и Лев русской мысли. Однаконачнем с разборки того, что у насна слуху, начнём сослухов и с сознательно упрощенных и, стало быть, ложных представлений о великом сеятеле вечного и доброго, поскольку по мере приближения к юбилею (200-летию) число псевдо-сказителей, наверняка, не будет уменьшаться. Многим это, похоже, очень даже на руку, поскольку развиваться вместе с «духом жизни», быть с ним заодно [37,115] они не видят резона. Итак, что мы слышим, когда речь идёт о Толстом как религиозно-философском мыслителе? Прежде всего, то, что он обладатель целого ряда странных особенностей, тёмных определений или, попросту говоря, ярлыков: пацифист, анархист, фаталист, моралист, нигилист и т.п.. У Гегеля есть статья «Кто мыслит абстрактно?», в которой он рассматривает способность рассудка выхватывать то или иное определение и выдавать его за суть. Такими выкрутасами, к сожалению, засорено наше общественное сознание, посему мы постараемся сделать важные шаги к его очищению.
1) Толстой – пацифист, поскольку выступает за мир и против всяческих войн, хотя, как известно, он сам принимал непосредственное участие в военных действиях при обороне Севастополя в Крымской войне 1854-1855 года, и отлично понимал, что на одной позиции пацифизма далеко не уедешь, а в его дневниковых записях можно, например, найти ответ матросу из Порт-Артура (это в разгар русско-японской войны 1905г.) о том, как упразднить все войны одним махом и, причём, далеко не мирным, но военным способом [55,33]. Или однажды он подробно объясняет, почему людям «опыт бедственности войны нужен», ибо они «к сожалению, только опытом познают» [51,87]. Вот такой он необычный пацифист.
Что же делать нам, по Толстому? Прежде всего, изменять сознание, возвышая его до уровня разумного мировоззрения. Поэтому для нас важным является не столько позиция в тот или иной момент его духовного становления, сколько поставленная им проблема войны и мира, к решению которой он сознательно шёл, особенно, начиная с середины 50-х годов.
2) Толстой – фаталист, поскольку он в период своей писательской славы (1860-1870-е годы), точнее, в период написания «Войны и мира» говорил и писал о законе предопределения, который, по его убеждению, управляет историей [16,16], умаляя роль не только т.н. исторических деятелей, но и всякого мыслящего человека, и человечества в целом. Причём, церковь его за это антихристианское представление и не осуждало. Ведь только христианство впервые и раскрывает человеку крестный путь познания истины, ведущий к свободе веры и разума (Ин.8:32). В свой последний (1880-1910 годы), духовный период, постигая закон божий как закон действующего в мире сём разума, или закона свободы, о котором говорит апостол Яков, Лев Толстой понимает, что встал на верный путь, ибо люди не пешки, и что христианский смысл их жизни в создании разумного этического государства (Царства Божия). Или он часто говорит, что «Надо быть заодно с духом жизни. Кто не заодно с ним, тот против него. Надо служить духу жизни, а не своему телу» [37,115]. А в этом призыве кто-то ведь также может усмотреть и некий моральный фатализм, особенно если смотреть неразумно. Но чтобы выявленная им всеобщая необходимость духа не довлела над человеком как внешнее иго или как некая неведомая судьба, человеку и предстоит развить в себе «разумное сознание» [39,124]. Итак, чтобы перековать мечи на орала надо познать разумным способом разумное содержание, или закон мира в его собственном развитии, быть споспешником развивающейся истине…
3) Он – моралист, поскольку своими сентенциями на тему любви и непротивления злу насилием он вызывал явный протест со стороны многих консервативно настроенных мыслителей – к примеру, К. Леонтьева или И. Ильина (напомню, что они однозначно выступали за противление злу силою, за моральный, ветхозаветный принцип «око за око»). Но вот что интересно, Индия во главе с Махатмой Ганди освободила себя от колониальной зависимости от Англии, следуя именно толстовскому принципу непротивления как способу разумной, внутренне необходимой борьбы со злом. Уже этот факт заставляет задуматься о важности Христовой истины, которую проповедовал Толстой.
«Непротивление злу насилием — не предписание, а открытый, сознанный закон жизни для каждого отдельного человека и для всего человечества» [56,75], поэтому даже те, кто не признают его, например, «Столыпин и революционеры», все равно «бессознательно содействуют осуществлению закона» [56,76].
Достоевский, потрясенный глубиной мысли романа «Анна Каренина», эпиграфом которого был «Мне отмщение и аз воздам» писал: «Зло таится в человечестве глубже, <…> что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, – замечает, – что человеческая душа окажется там же, что ненормальность и грех исходят из неё самой и что, наконец, законы духа человеческого столь ещё не известны, столь неведомы науке» (25,201). Но, к сожалению, Достоевский умер как раз в то время (1881г.), когда Толстой приступил к раскрытию единого закона природы и духа как такового.
4) Он– анархист, поскольку против всякой власти, против государства, но так ли это? Наоборот, он активно выступал за разумное устройство человеческого общества, вслед за Кантом говорит о божественном этическом государстве. Далее, он говорит о христианском отношении к власти, о том, что не достаточно только подчиняться власти, быть формально законопослушным, но важно внутренне признавать законность власти. Речь идёт не только о легальности, но, прежде всего, о легитимности законов государства, поскольку не всякая власть есть насилие. Так что Толстой не против власти, он «не анархист, a христианин» [55,239], понимающий, что «власть может быть не насилие, когда она признается как нравственно и разумно высшее» [49,70]. Ср.: «Иго моё благо и бремя моё легко». Однако он достаточно ясно отдает себе отчёт, что в опыте исторического становления разумного сознания без насилия не обойтись [51,87].
5) Он– нигилист и еретик, поскольку является противником цивилизации. «Меня сравнивают с Руссо… но разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лже-христианскую», т.е. он выступает как и Кант против церковно-исторической формы христианства (от имени которой, к примеру, наш обер-прокурор Св.Синода Победоносцев говорил: «Ваша вера одна, а моя и церковная другая»). Хотя для Толстого-мыслителя церковная форма христианства исторически так же необходима, как необходимо, «чтобы посеянное зерно было на время скрыто землёй». В то же время он понимает, что в церкви немало было и остается добрых, по-христиански мыслящих подвижников (Тихон Задонский, к примеру). Потом, как известно, 50 лет он переписывался со своей, воспитанной в традициях официального православия тетушкой Александрой Андреевной (камер-фрейлиной императорского двора). К примеру, вопросы, которые они обсуждали: «Что значит у каждого свой крест?…По Толстому, крест познания истины один, единый, и в то же время у каждого он свой. В то же время Толстой не отказывается от величайшего таинства, присущего христианству, поскольку оно присутствует в общении человека с человеком. Именно общение «есть единственное и величайшее таинство: сознание себя (Бога) в другом» [57,76]. Но в своём «Исследовании догматического богословия» Толстой, критикуя «Православно-догматическое богословие» митрополита Макария, вполне справедливо ставит под сомнение непререкаемость многих положений официального православия, в частности, что Бог как предмет веры «непостижим для человеческого разума». Толстой: «Через любовь и разум только познаем, что есть Бог, а чтò Он мы не можем знать». В этом утверждении он ближе к Иоанну Дамаскину, к его идее, что Бог всеял в нас знание о том, что он есть. Во-вторых, если в религии и делается акцент на безусловной непознаваемости Бога, то тогда и поклонение образу, запечатленному в материи иконы, о чём писал Иван Грозный, лишается смысла. Так что неудивительно, что в этом отчуждении Бога (даже в его явлении!) и лежит ответ на вопрос, почему церковь, по словам Ф.М. Достоевского, в параличе с Петра Великого. Вот почему наша классическая литература была вынуждена взять на себя тяжелейшую задачу раскрыть, не опираясь на церковь, великую тайну русского богоискательства.
Н.С. Лесков написал статью «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи. Религия страха и религия любви». Вышла она в 1883 году, в которой Лесков раскрывает и собственное представление об истинном (потаённом) христианстве. В чем истина? ЛНТ: «Утеряна главная сущность учения Христа: наша сыновность Богу». Тогда как понимать «Отче наш», если к своему Отцу не станут обращаться его Дети?
6) Он обскурант – не признает ни науку, ни искусство. Заметим, что толстовская критика позитивной науки касается двух необходимых сторон познавательного процесса, от которых абстрагируется «самодостаточный» рассудок учёных мужей, – субъективно-личностной и субстанциально-божественной. В первом случае эмпирическая наука, исследуя предмет, теряет связь с мыслящим сознанием этого предмета, ибо «нельзя рассуждать о внешнем, о мире, не сказав о себе, о том, кто видит мир» [56,138]. Во втором, «онтологическом» случае, эмпирическая наука не видит связь с божественно-субстанциальной основой всего сущего в познавании, вот почему, даже «баба, призывающая Бога, даже Николая Чудотворца, как нечто высшее, духовное, ближе к истине самого ученого профессора, не признающего ничего не подлежащего наблюдению и рассуждению» [55,258].
– «На днях приезжал ко мне ученый доктор — он и писал мне — с вопросом о том, как изложить ясно и точно научно понимание смысла жизни. Я сказал ему, что по моему мнению смысл жизни определяется стремлением к благу того невещественного начала, которое мы сознаем в себе. Ученый доктор не слушал меня <…> и перебил меня, сказав, что все это субъективно, а желательно объективное определение смысла жизни. Когда я спросил, какой же может быть объективный смысл жизни, он ответил мне словом эволюция. Услыхав это слово, я извинился, что не могу далее продолжать беседу [58,148].
– «Жизнь всякого человека ведь есть не что иное, как освобождение вечного божественного начала, составляющего сущность души, от ложного сознания своей отделенности — личности». У Толстого речь идёт о божественном начале, или субстанции, которая, через самоотвержение всего смертного в нас (Мф.16:24) становится субъектом, и одновременно о субъекте, становящимся субстанциональным. Так что Толстой в процессе духовного самообразования, можно сказать, заметно продвинулся к пониманию единого вселенского процесса – процесса эманации и эволюции. Более того, в его представлении о том, что «сознание разумное есть сознание Бога» [54,217] можно увидеть идею изначального единства божеского и человеческого как вечную развивающуюся разумную основу всякого особенного бытия.
«У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость и искусственность. … Из двух страшнее: искусственность». «Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся». Из-за красоты они шли на самопожертвование /Ср. Гомер: нет осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы брань за такую жену и беды столь долгие терпят/ Истинно вечным богиням она красотою подобна/. В христианской культуре только «Доброе есть признак истинного искусства».
7) Ему можно навешивать и многие другие ярлыки (сегодня его могут обвинить и в сексизме, поскольку он отводит женщинам иную роль, хотя он и не сводит её к вульгарным трем «К» – киндер, кюхе и кирхе, но в духовном плане. К примеру, что касается о христианской любви, то до неё необходимо возвыситься духом: «Софья привязана к предмету любви, но не к самой любви» /Ср: а за что люблю Ивана/…. Хотя есть у него и такое вполне добродушное и в то же время не без иронии: «Если бы Христос пришел и отдал в печать Евангелия, дамы постарались бы получить его автографы и больше ничего».
Что необходимо для понимания мыслителей, особенно такого уровня как Достоевский и Толстой?
Казалось бы, все просто – есть тридцать томов Достоевского, девяносто томов Толстого, есть множество написанного о них, НО! одним внешним анализом текстов вы никогда не проникните в суть тех проблем, которые решали мыслители. Это хорошо уяснил, к примеру, современный писатель Лев Данилкин, досконально исследующий жизнь и учение В.И. Ленина (55 томов дважды проштудировал!), пришел для сея к неутешительному признанию, что стал жертвой эскимосской охоты (особый способ травли зверя). Хотя ему все-таки удалось многое раскрыть, но только потому, что он сам попытался разобраться в вопросах философского способа познания, особо штудируя 29 том ПСС, в котором помещены конспекты лекций по философии Гегеля.
Итак, всё дело в способе духа, в способе познания. Важно не просто мыслить о человеке, об обществе, но важно развить в себе способ познания, или глаз, как выражался Достоевский, т.е. способность умозрения. «Каков глаз – таков и предмет. Нет глаза и вы слепы: для одного поэзия, а для другого …». Об этом, но только иными словами говорит и Толстой, в частности, в письме к Фету он отстаивает необходимость развития способа познания Бога [17,723]. А в более позднее время (после написания романа «Анна Каренина») он приходит к выводу: чтобы познать разумное и вечное содержание мира – нужно самому развить в себе разумное сознание. НО! Обратим внимание, что для него разумное сознание выступает только ещё в форме религиозного. Или можно сказать так: у него сочетание разумного и религиозного сознания получает форму истинного Я [55,24].
Всё отличие веры церковной от той веры, которую понял в христианстве Толстой, заключается в отношении к разуму. По Толстому истинная вера неразрывно связана с разумом, и само христианское учение по своему содержанию разумно, ибо оно обращено к познанию истины. «И познаете истину…» (8,32). Поэтому разумная вера не нуждается в посредничестве. Разумное сознание – сознание божественное и оно в нас, которое мы должны освободить от всего ложного, прежде всего от предрассудков [75,227]. «Всё в табе», – эти слова крестьянина Сютаева часто не только повторялись Толстым, но и становились предметом серьёзного осмысления. Разумеется, что к вопросу «Как сознательно развить в себе способ всеобщего мышления?», вставшему перед представителями немецкой классической философии, Толстой только ещё продвигался, поэтому нам пока важно, как он методом проб и ошибок пришёл к постижению разумного и вечного в себе самом.
Толстой в своей краткой биографической справке выделяет четыре периода своего стихийного духовного созревания. Так, он проходит период радостного поэтического детства (до 14), затем 20-летний период, по его строгой оценке, это «период грубой распущенности и служения тщеславию и похоти»; третий период (18-летний) он «жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы сводились к увеличению состояния, приобретению литературного успеха, и всякого рода удовольствий»; наконец, начиная с 80-х годов XIX века – четвертый период духовного рождения, когда он приходит к пониманию: «Человек есть вневременное и внепространственное существо, которое сознает себя в условиях пространства и времени» [53,227].
Понятно, что в описанных Толстым первых трёх периодах его жизни можно увидеть вполне типичные черты и этапы развития не только представителей сословия, к которому относился русский писатель, но и сегодня они понятны и в определенном смысле соотносимы с современными представлениями о чертах и этапах жизни. Вот и пушкинские строки из «Евгения Онегина» говорят об этом: «Блажен кто смолоду был молод, блажен кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел». Хотя если здесь у Пушкина и нет слов о периоде духовного рождения, однако сама способность к самопожертвованию ради истины в форме красоты говорит о потребности в духовном, о проявлении разумного и вечного в нас: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен». Или способность «благоговеть богомольно перед святыней красоты», о чём писал наш классик в стихотворении «Красавица», несомненно, возвышает созерцающих красоту как раз к истинно духовной жизни, к идеалу добра (как сказал бы Толстой). Мысли о возвышении духа от идеала красоты к идеалу добра [50,111] можно найти в его дневниковых записях.
Однако Толстому как мыслящему писателю важно не просто констатировать этапы стихийного становления духа на своем индивидуальном опыте, но важно раскрыть закономерный ход духа жизни, или необходимые ступени единого разумного начала [85,394].