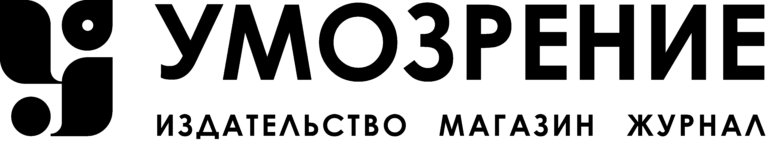Михаил Лифшиц и Эвальд Ильенков: незавершенный диалог по проблеме идеального

Проблема идеального, обсуждение которой в обстановке дискуссий, вызванных первыми успехами кибернетики, более полувека назад было инициировано Э. В. Ильенковым и подхвачено М. А. Лифшицем, в настоящее время получила особую актуальность. Информационные и цифровые технологии настолько изменили с тех пор обыденную жизнь, торговлю, материальное производство и все иные отношения людей друг к другу и к природе, что словосочетания цифровая экономика, умный дом, искусственный интеллект и т. п. сегодня уже не считаются бессмысленными, а когнитивные науки, относительно недавно возникшие, так заинтересовали публику, что Т. В. Черниговская и К. В. Анохин, оставаясь серьезными учеными, стали популярными медиа-персонами. Поэтому старые философские вопросы о природе идеального, о характере отношения идеального и реального, психического и физического, сознания и мозга, составившие предмет диалога Лифшица и Ильенкова, вновь оказались в эпицентре внимания научной и более широкой общественности, которой еще предстоит подняться до высокого теоретического уровня их размышлений об этих непростых проблемах. Приобщению к достигнутому ими препятствует, правда, то обстоятельство, что идейное содержание их диалога явно недооценивают многие деятели современной российской философской культуры как немарксистской, так и марксистской ориентации, причем какая-то часть последних – по причине различия трактовок идеального в трудах Лифшица и Ильенкова. Оба они, будучи искренними приверженцами диалектического материализма, который в советскую эпоху российской истории воспринимался преимущественно догматически, выступили как самостоятельные мыслящие единицы, чьи последователи, провоцируемые этим различием, поныне ведут между собой партийную борьбу [1]. Полемика между ними, к сожалению, бросает тень на солидарные усилия выдающихся мыслителей советской эпохи, ибо, как будет показано, Лифшиц с Ильенковым шли рука об руку в одном и совершенно правильном направлении. В чем же заключается их общий вклад в решение проблемы идеального и какой подлежащий усвоению урок таят в себе их разногласия? Дадим ответы на заданные вопросы, опираясь, главным образом, на «Диалог с Эвальдом Ильенковым» – последнюю теоретическую работу Михаила Лифшица, в виде незаконченной рукописи опубликованную к двадцатилетию его внезапной кончины.
Лифшиц предваряет свой монолог, в который после трагического ухода Ильенкова из жизни превратился их тридцатилетний философский диалог, критическим анализом основной установки современной философии, пытающейся разными способами подчинить сознание людей их бытию. «Так, например, – пишет он, – можно привести душевные движения людей к расовым или этическим началам, можно бороться против “рационализма” во имя переживающей свое уникальное своеобразие или свою брутальность жизни, можно редуцировать наш внутренний мир к экзистенциальной ограниченности человеческого существования перед лицом смерти или искать эту спасительную ограниченность в подвалах человеческого духа, где прячутся силы, слепые и страшные, можно, наконец, представить мысль в качестве пифии, “изрекающей бытие” без всякого посредствующего звена, обычной человеческой логики» [3; С. 52]. Во всех таких сюжетах, рассказывающих о невменяемости сознания, якобы лишенного доступа к истине, есть ее частица, признаёт Лифшиц, поскольку дух наш, с одной стороны, всегда конечен, ограничен внешней ему природой и своим собственным наличным бытием. В целом, однако, радиация, распространяемая неклассической философией, кичащейся своим мнимым превосходством над классической философской традицией, служит донельзя иррациональной цели – «загнать бесконечность человеческого духа в обратно в бутылку, из которой этот джинн однажды вышел, и, сделав на ней соответствующую надпись, поставить готовый экспонат на полку музея “частичных миросозерцаний”» [3; С. 73], где выставлены лишь духовные феномены, насквозь определяемые местными и временными условиями. Структурализм, выступив наследником модной с начала XX века вивисекции единой жизни духа на множество замкнутых на себя особенных культур и стилей мышления, выдвинул на первый план мертвую схему формальных закономерностей, отбирающих у содержания сознания прозрачность, а у самого сознания – способность быть speculum mundi, т. е. зеркалом, или адекватным отражением бесконечности предметного мира. Столь губительную тенденцию, продолжает Лифшиц, усугубляет бум вычислительной техники и математического языка, чьи носители, выступая под знаменем точной научности, сначала квантифицируют все фактические отношения, а затем манипулируют полученными данными, тем самым окончательно обессмысливая духовные явления, сущность которых, менее всего подобная вещественной стихии, не может быть выражена количественными характеристиками. Хотя повальное увлечение цифровыми технологиями, получившее у нас сегодня вымученное имя цифровизации, грозит окончательно дезавуировать понятие единой, или всеобщей, абсолютной истины как вершины всех стремлений духа, она, оставаясь неузнанной, все же проникает в это царство технобесия, по выражению Лифшица. Главное противоречие всех служащих технократии теорий сознания, поскольку каждая, как любая теория, претендует на истинность, он усматривает в том, что их авторы полагают себя обладателями свободного «метасознания», или «сверхсознания», которое не подпадает под декларируемое ими общее правило смутности сознания, темного как материя, и неясно почему возвышается над тотальной замкнутостью человеческого духа в круге слепых феноменов, не допускающем духовного отражения истинной действительности.
Лифшиц решительно выступает против представления о герметической закупоренности сознания и, утверждая неразрывную связь мышления с бытием самим по себе, называет свой ракурс рассмотрения этой связи онтогносеологией. Без каких-либо оговорок соглашаясь с материалистическим положением о зависимости сознания от бытия, он по примеру Аристотеля и Канта различает два ее аспекта – феноменальный и ноуменальный: «Есть относительная и зыбкая, но вполне реальная грань между сознанием как чистой иллюзией, сопровождающей фактическое действие сил, и сознанием, несущим в себе идеальное содержание, будь это добросовестный диагноз врача, забывшего ради другого человека свою собственную болезнь и даже свою профессиональную психологию, которая иногда мешает ему, или сильная воля, способная обуздать страх смерти ради общественного порыва, или творческий энтузиазм художника. Мы можем, по образцу старых философов, назвать эту сторону нашей личности интеллигибельной, приписывать ей значение ноумена, в отличие от феноменов эмпирического сознания» [3; С. 95]. Бытие, согласно Лифшицу, определяет наше сознание двояко. По одной, конечной, феноменальной стороне отношения мышления и бытия мы есть «прах от праха, автохтоны, выросшие из земли, прошедшие долгий путь растения и животного, тысячи лет первобытности, глухие века истории и все еще тянущие за собой это наследство» [3; С. 119-120]. Поскольку с этой стороны бытие всегда остается позади сознания, постольку сознание выступает, прежде всего, как зависимое от обстоятельств бессознательное явление духовной жизни. Другая же, бесконечная, ноуменальная сторона отношения мышления и бытия, лежащего перед сознанием, гарантирует сознанию его сознательность, т. е. истинность. В науке, искусстве и нравственности, полагает Лифшиц, «каждая наша мысль и каждый оттенок чувства входят в общую систему продуманного и прочувствованного всем человечеством на его пути к “противообразу” бытия, или, как говорят в таких случаях, – к абсолютной истине» [3; С. 120]. Умение духа подняться над собственной ограниченностью, выйти из замкнутого круга, навязанного ему обстоятельствами, тоже обусловлено бытием, подчеркивает он, но бытием «в его большом, а не в малом и фрагментарном значении. Это посредствующее звено (по природе своей бесконечное) дает человеческому сознанию возможность, в меру исторического развития, подняться над конечными условиями, определяющими его возможности на старте» [3; С. 96]. Дух наш, действуя «как слуга двух господ» [3; С. 117], в состоянии по причине противоречия конечности и бесконечности бытия пройти между ними и, взяв, по словам Лифшица, заём у бесконечности, обрести действительную, пусть относительную, но совсем не иллюзорную свободу.
В раскрытии этого источника разумной свободы духа Михаил Лифшиц справедливо видит превосходство своей онтогносеологии над позициями самых видных представителей современной ему философской мысли, в т. ч. над фундаментальной онтологией Мартина Хайдеггера. В отличие от тех, кто, подобно Фрейду, наивно смешивает две стороны зависимости сознания от бытия, Хайдеггер, смело идя навстречу опасности, склонен сознательно подставлять одну вместо другой. Особенно часто во второй период жизни немецкого философа «непосредственное выражение бытия, стоящего позади сознания, становится языком бытия, лежащего перед ним», – замечает Лифшиц [3; С. 71]. Так же точно у Карла Ясперса философская вера, служащая способом трансцендирования, прыжка сознания из обыденности в сферу охватывающего, с одной стороны, принципиально отличается от эмпирических наук, которые дают строгое знание о мире, но не знают истины как таковой, а, с другой стороны, будучи этим знанием, претендует на общезначимость, присущую этим наукам. Герменевтика, созданная Гансом-Георгом Гадамером по проекту Вильгельма Дильтея, пускается, по сути, на ту же уловку. Влиятельность этой школы в век мировых конфликтов доказывает, согласно Лифшицу, что consensus omnium, или согласие всех, есть тайная мечта современной философии «даже там, где она подчеркивает феноменальность каждого “частного миросозерцания”, связанного с условиями исторической и личной жизни субъекта» [3; С. 73]. Но если ограничиться лишь герменевтическим требованием осторожного диалога между субъектами, оставляя неясным вопрос о единстве объективной истины, на основе которой разные типы субъективного сознания могли бы понять друг друга и согласиться не только на словах, то достижение такого согласия остается весьма проблематичным. Всякая подобная теория, включая социологию знания Карла Мангейма и Макса Шелера, «есть либо простое самоутешение, рассчитанное на литературный успех, либо все же хорошая или плохая теория, вынесенная за скобки в качестве исключения из общей условности всякого человеческого мышления. Как ни замазывай эту прореху словами, – подводит Лифшиц итог своему критическому анализу, – само понятие теории противоречит экзистенциальной, социологической, физиологической, лингвистической и прочей феноменальной замкнутости сознания» [3; С. 72].
Поскольку в этом безвыходном для теоретического рассудка противоречии с самим собой сказывается реальное противоречие конечности и бесконечности бытия, открывающее возможность действительной свободы духа, постольку оба противоречия нуждаются в разумном разрешении. Достижение такого решения является, согласно Лифшицу, большой и не исключительно научной проблемой, ибо к нему «толкает вся обстановка современного мира. “Бессилие духа” перед лицом громадных материальных структур является фактором, искажающим роль сознания и преувеличенным до паники различными философскими и социологическими течениями современности. Сознание как функция, инструмент, орудие, знак, предмет воздействия, факт общения, условность, “термин” и т. д., словом, сознание прекарное (находящееся лишь во временном пользовании, т. е. сознание конечное, превратное. – А. М.), понятое не в его собственной природе, а в той имитации, которая приравнивает мысль к вещественным стихиям товарного мира или другим подручным средствам административной техники, – вот, в сущности, ад Ильенкова, предмет его внутреннего отталкивания» [3; С. 33-34]. Отстаивая сознательность сознания, Эвальд Ильенков принял эстафету от узкого круга людей предвоенного десятилетия, в центре которого находился Михаил Лифшиц. Яснее всего их идейное родство выступило в диалектической трактовке Ильенковым природы идеального как бесконечного, абсолютного, или вечного, но отнюдь не чуждого самой реальности, которая всегда конечна и относительна, так как существует во времени и пространстве.
Выход из адского круга, куда ввергла теоретическую мысль паника, вызванная тем, что бессознательность сознания затмила в условиях современности его сознательную природу, Ильенков нашел в бытии общественного человека, которое, по его убеждению, заключает в себе как тайну идеального, так и ее разгадку. С его точки зрения, именно общественная природа идеального позволяет людям постигать истину, расставаясь с идолами научной фантастики вроде т. н. «мыслящей машины» и ориентируясь на реальные идеалы разума, красоты и добра. Самоотверженно встав на их защиту, Ильенков вступил в полемику с И. С. Нарским и Д. И. Дубровским, так как они увлеклись редукцией сознания к высшей нервной деятельности мозга и ее искусственным моделям, аналогичной редукции сознания к классовым отношениям, две битвы со сторонниками которой «течение» во главе с Лифшицем выиграло в 1934-1936 и 1940 гг. Взяв в союзники авторитетных психологов С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, Ильенков определил идеальное как «форму деятельности общественного человека» [4; С. 173], направленной на преобразование им природы и самого себя, в результате чего возникает мир явлений материальной и духовной культуры. Идеальное вообще, пишет Ильенков, есть характеристика «вещественно-зафиксированных (объективированных, овеществленных, опредмеченных) образов общественно-человеческой культуры, то есть исторически сложившихся способов человеческой жизнедеятельности, противостоящих индивиду с его сознанием и волей как особая “сверхприрода”, объективная действительность, как особый предмет, сопоставимый с материальной действительностью, как находящийся с ней в одном и том же пространстве (и именно поэтому часто с ней путаемый)» [5; С. 40].
Лифшиц убедительно показывает [См.: 3; С. 200-203], что определение идеального как формы общественной деятельности равносильно другому его ильенковскому определению, которое характеризует идеальное как форму общественного сознания. В обоих этих определениях содержится большая доля истины, солидаризуется Лифшиц с Ильенковым, поскольку они выражают выход сознательной деятельности, или деятельного сознания человека за пределы непосредственной связи с конечным бытием его тела, в т. ч. с мозгом. В своем стремлении к абсолютной истине человеческий дух примыкает к бесконечному содержанию окружающего мира и, не утрачивая своей субъективности, обретает объективность. Лифшиц совершенно согласен с Ильенковым, утверждающим, что человек как духовное, или «мыслящее существо тем и отличается от немыслящего, что оно умеет действовать “по логике другого” (по объективной логике внешнего мира), в то время как немыслящее существо действует только по своей собственной логике, повинуясь структурно присущему ему и строго специфичному закону, физически, химически или биологически закодированному в нем алгоритму. Иногда говорят, что философия до сих пор не дала научного определения мышления, строгой дефиниции. Неправда. Если говорить о дефиниции, то и она есть, хотя не в ней дело, ибо одной дефиницией суть мышления не исчерпаешь. Мышление есть способность человека отражать (воспроизводить) форму и меру любой вещи вне мышления и действовать сообразно такой мере и форме, согласно, а не вопреки ей» [6; С. 287-288]. Эту универсальную человеческую способность адекватно выражает, по Ильенкову, логика разумного способа мышления, включающего в себя рассудок, но не сводящегося к нему. Разработанная Аристотелем, Спинозой, Кантом и Гегелем, она в духе Платона была названа Марксом и Лениным диалектикой, т. е. наукой о законах развития бытия и мышления. Ильенков со знанием дела подчеркивает, что эта содержательная в себе самой наука разумного мышления противоречий, выступающих источником любого развития, радикально отличается от рассудочной логики, математизированной Булем, Кантором, Расселом и Фреге, которая годна лишь на построение «формально-непротиворечивых цепочек терминов» [6; С. 288]. Недостаток даваемых Ильенковым определений идеального Лифшиц усматривает лишь в том, что они замыкают его реальное бытие в сфере духа, начисто отказывая природной реальности в способности к идеализации своих состояний. «Если идеальное есть форма человеческой деятельности, то оно существует также в природе, а не вне природы. И откуда бы человеческий труд мог извлечь нечто идеальное, если бы он не был полезной общественному человеку стилизацией процессов природы?», – резонно спрашивает он своего товарища по борьбе за сознательное сознание [3; С. 204]. Согласно онтогносеологии Лифшица, реальное бытие природы и общества, в некоторых пунктах своего развития выступая как идеальное, само идет навстречу идеальности нашего мышления, а оно, в свою очередь, познавая идеальные состояния бытия, замыкает круг отношения мышления и бытия, образующий, таким образом, систему. Категорическая дилемма, которой он резюмирует свое возражение, значительно усиливает тезис Ильенкова об универсальности, т. е. эмпирической всеобщности, формы идеального: «Словом, идеальное есть во всем, оно есть и в материальном бытии и в сознании, оно есть и в обществе и в природе, или же его нет нигде» [3; С. 205].
Чтобы оградить главное в наследии Ильенкова от того, что расходится с истинным направлением его мысли, Лифшиц различает в ней два пункта, скрыто противоречащих друг другу. По первому, совершенно верному ее пункту идеальное принадлежит не только человеческой голове, но существует объективно, как объективно есть его более широкая основа – всеобщее содержание идеальных форм, или абсолютная истина мышления и бытия, состоящих поэтому в необходимом отношении, в неразрывной связи. Второй же ее пункт, ограничивающий реальность идеального сферой общественного сознания, опредмеченного в продуктах человеческого труда, или в мире культуры, Лифшиц отказывается одобрить потому, что этот пункт слишком сближает мысль его подзащитного с позитивизмом А. А. Богданова, главного теоретического антигероя последней работы Ильенкова, опубликованной вскоре после его самоубийства [См.: 7]. Богданов определял общественное как коллективно организованный опыт и, стало быть, видел в нем нечто среднее, в чем противоположность общественного бытия и общественного сознания стирается настолько, что общественное бытие людей становится феноменом их сознания. Но сознание, возражает Лифшиц Богданову и через него – Ильенкову, всегда остается сознанием, т. е. чем-то отличным от отражаемого им бытия, неважно, общественное это сознание или индивидуальное [2]. Это опасное, с точки зрения Лифшица, сближение подвигает его на полемику с Ильенковым по вопросу о том, могут ли вещественные факторы быть причинами ментальных явлений. Ильенков, отстаивая свободу мышления, отрицает возможность причинного действия тела человека на его дух. Лифшиц же полагает, что между природой и духом не может отсутствовать необходимая причинная связь, не исключающая свободы духа, причем связь взаимная, которая позволяет уму человека вызывать изменения в его теле, тем самым нарушая даже закон сохранения энергии [См.: 3; С. 45]. «Конечно, биотоки моего организма не могут прямо подсказывать мне логические аргументы, – соглашается он с Ильенковым, – но и в других случаях причина не действует на следствие, хотя вызывает его, как присутствие катализатора (причина) вызывает ускорение или замедление химической реакции (следствие). Так же и мозг может быть причиной мышления, хотя содержанием мысли являются другие мыслимые тела» [3; С. 123].
Не умножая далее примеры продуктивности этой товарищеской полемики, зададимся вопросом: чем вызваны разногласия Лифшица с Ильенковым при бесспорном единстве их диалектико-материалистического мировоззрения? Той почвой, на которой Лифшиц и Ильенков дружно выступили соратниками в борьбе против прогрессирующей дегенерации духовной жизни, было признание ими абсолютной истины всеобщей мерой сознательности сознания, бесконечной целью всех порывов конечного человеческого духа. Поэтому для них обоих человек есть здоровое сочетание духовного и природного начал, нарушаемое только болезнью, которую трудно лечить, но можно вылечить. Иными словами, Ильенков и Лифшиц видели в нем субъект-объект, чье мышление постольку безусловно самостоятельно, поскольку оно обусловлено независимым от него бытием. На основании конкретного единства абсолютной истины как всеобщего отношения мышления и бытия, субъекта и объекта Ильенков сделал акцент на субъективной, деятельной, активной стороне неукротимого стремления человеческого духа к абсолюту, а Лифшиц, напротив, – на объективной естественно-исторической обусловленности и пассивности духовной деятельности субъекта, на зависимости мышления от бытия. Таким образом, различные принципы их единого философского мировоззрения (субъективный субъект-объект Ильенкова и объективный субъект-объект Лифшица) по необходимости дополняли один другого, отчего оба они в своих принципиальных разногласиях были правы и по счастливому для отечественной философии случаю встречи друг с другом сообща торили дорогу к решению проблемы идеального.
К сказанному нельзя не добавить, что этот счастливый случай свел вместе двух мыслителей, ясно сознававших необходимость освоения всей классической философской традиции в ее письменном виде от Платона и Аристотеля до Шеллинга и Гегеля включительно, поскольку без ее освоения невозможно познание истины и того, что без истины не существует и не может быть познано. У Маркса и Энгельса отношение к этой традиции в целом было противоречивым, причем господствовало в нем отрицание, особенно идеалистической ее составляющей, вызванное потребностью утвердить новое материалистическое мировоззрение с его диалектическим методом. Несовершенство их отношения обязывало Ильенкова и Лифшица как приверженцев не ортодоксального, а творческого марксизма предпринять отрицание этого отрицания. Ради вполне разумного разрешения противоречия классического марксизма с классической философией Ильенков, руководствуясь своим принципом, преимущественно логически осмыслял наследие всех ее представителей, выделяя среди них Платона, Спинозу и Фихте, а Лифшиц, направляемый принципом своей онтогносеологии, осмыслял их наследие преимущественно феноменологически, выделяя Аристотеля, Канта и Шеллинга. В силу принципиального различия их подходов к этому историческому материалу идейное единство содержания «Феноменологии духа» и «Науки логики» Гегеля, которое Ильенков и Лифшиц, разумеется, не могли игнорировать, было ими раскрыто не полностью, что также сказалось на освоении ими понятия идеального, основного в гегелевском абсолютном идеализме.
Ильенков вслед за Марксом, употреблявшим в своих работах, как правило, немецкое ideelle [3], трактует идеальное (за редкими исключениями, когда заходит речь об идеалах) именно как ideelle, отчего идеальное есть для него, прежде всего, всеобщее начало представления материального бытия в сознании и деятельности общественного человека. Лифшиц же ссылается на то, что «уже в “Идеях к философии природы” 1797 г. Шеллинг применяет контрарные определения ideal и Ideel. Они встречаются и в других его сочинениях, но лучше всего природа этой противоположности выясняется в “Лекциях о методе академических занятий”, в разделе, посвященном философии искусства. Здесь “сущее в идеях” (das Ideelle) объясняется как “высшее отражение сущего в реальности” (das Reellen). Философия есть рефлекс того, что в художнике существует как нечто реальное. Эту терминологию, – утверждает он, – воспринял и Гегель, а от него она перешла в экономический анализ Маркса» [3; С. 231-232]. Поэтому Лифшиц трактует идеальное, главным образом, именно как ideale, т. е. как особенный результат всех реальных процессов, поскольку в своем контрарном, противоположном ideelle определении оно выступает именно как идеал – положительный образец вроде идеально твердого тела в физике или общественного идеала в марксизме. Исследователь даже сожалеет, что в русском языке «нет двух слов для передачи понятий Ideal и Ideell», так как слово «идейное», лучше других подходящее для перевода Ideelle, приобрело у нас «совершенно другой смысл» [3; С. 232] (что, заметим, никак не препятствует использовать в переводах работ немецких классиков философии на наш язык именно это слово, точнее всего передающее смысл немецкого Ideelle). Не соглашаясь с ограниченностью ильенковской трактовки идеального, Лифшиц указывает, что, с точки зрения Гегеля, Ideelle, «которое может быть как идеальным, так и совсем не идеальным», есть не «только головное, имеющее отношение к человеческому сознанию» и рассудку, а всё, «что существует, так сказать, в плане развития, но еще не определилось, не является самобытием» [3; С. 232-233], т. е. не достигло идеального состояния, адекватного своему понятию – состояния, соответствующего разуму, или, что то же самое, себе самому как идеалу. Из проведенного сравнительного анализа следует, что трактовки идеального Ильенковым и Лифшицем тоже прекрасно дополняют друг друга и составляют их общий вклад в решение проблемы идеального, хотя ни одна из них не исчерпывает полноты моментов гегелевского понятия идеального, ибо, как всякое понятие у Гегеля, оно включает в себя не два противоположных, а три неразрывных момента.
Кстати сказать, как раз по этой причине у Гегеля, в отличие от Шеллинга и Маркса, вообще нет терминологии – строгой привязки определенных слов к определенным значениям. Его отношение к философскому языку гораздо свободнее, отчего «терминологический словарь Гегеля» не составим. Поэтому в том месте из текста примечания к § 95 гегелевской «Энциклопедии философских наук», которым Лифшиц иллюстрирует «невыгодное отличие» ideelle от ideale как «идеальности в собственном смысле слова» [3; С. 234], Гегель пишет не об Ideelle вообще, т. е. не об идейном в моменте его всеобщности, но об ein ideelles, т. е. о некоем идейном, об идейном в моменте его особенности. Тем самым Гегель подчеркивает, что здесь имеется в виду лишь абстрактный, для себя еще не определенный момент развития понятия истины, или абсолютной идеи как таковой, понятой в конкретном тождестве ее всеобщности, особенности и единичности, где оба других момента понятия включены в каждый из трех его моментов, чем и обеспечивается неразрывность их всех. Любое конечное (логическое, природное или духовное) определение есть для великого немецкого идеалиста только некое идейное, или конечный момент бесконечного развития абсолютной идеи как идеального тождества мышления и бытия. «Эта идеальность (Idealität) конечного есть основное положение философии, – утверждает Гегель, – в силу чего каждая истинная философия есть идеализм» [9; S. 133; ср.: 10; С. 236], причем идеализм не в смысле верности идеалам как положительным образцам, а как философское познание всех моментов саморазвития истины, или в себе и для себя бытия абсолютной идеи, выступающей поистине бесконечным основанием развития любой налично сущей реальности, которая по этой первопричине конечна, т. е. находится некоем идейном состоянии, противоречиво сочетающем реальное и идеальное.
Подведем итог. Поскольку история классической философской мысли есть, в сущности, феноменологическое снятие бессознательного эмпирического сознания, осуществленное человеческим духом на пути от противоположности мышления и бытия к их конкретному тождеству в абсолютной истине, познаваемой логическим методом, постольку взаимная дополнительность принципов Ильенкова и Лифшица обеспечила их философскому диалогу об идеальном поистине бесконечную перспективу. Незавершенность этого диалога (non finito не только Михаила Лифшица, но и Эвальда Ильенкова) является его неотделимым от недостатка достоинством, так как она не позволила обоим мыслителям остановиться на достигнутом, абсолютизировать свою относительную правоту. Поэтому главный урок, который предстоит извлечь из разногласий между ними, заключается в том, что без освоения исторического развития философии от Платона до Гегеля включительно все теоретические проблемы, связанные с идеальным, строго научным способом решить нельзя. Лифшиц с Ильенковым не представляли себе будущего без соединения настоящего с прошлым, так как понимали, что действительно современная мысль может быть воспитана только на основе классической философской традиции в целом, которая одна является школой вполне разумного мышления, требующегося для разрешения противоречий реального бытия. Понимание этого сделало героев настоящей статьи разумными консерваторами – непримиримыми ко всякому модернизму борцами за дальнейшее логическое развитие бесконечности нашего конечного духа. Они не сомневались, что помимо такого развития нет никакой возможности сохранить эту бесконечность, в результате всего исторического развития философии однажды достигнутую Гегелем и остро необходимую современному человечеству, страдающему от бессознательности конечного сознания, которую философский модернизм, претендуя на элитарность, считает неизлечимой духовной болезнью масс.
А. Н. МУРАВЬЁВ
Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-011-01042 А «Консервативные идеи в советской философии и литературе (круг М. А. Лифшица)». Впервые опубликовано в журнале Studia Culturae, 2020. Т.44.
ЛИТЕРАТУРА
- Мареева Е. В. Проблема идеального: спор двух марксистов // Эвальд Васильевич Ильенков. Под ред. В. И. Толстых. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С. 215-240.
- Арсланов В. Г. Non finito Мих. Лифшица // Мих. Лифшиц. Диалог с Эвальдом Ильенковым (Проблема идеального). М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 293-361.
- Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым (Проблема идеального). М.: Прогресс-Традиция, 2003. 368 с.
- Ильенков Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. 2 изд., доп. М.: Политиздат, 1974. 271 с.
- Ильенков Э. В. Диалектика идеального // Э.В. Ильенков. Искусство и коммунистический идеал: Избр. статьи по философии и эстетике / Вступ. статья Мих. Лифшица. М.: Искусство, 1984. С. 8-76.
- Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах / Э. В. Ильенков. М.: Политиздат, 1968. 319 с.
- Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма: Размышления над книгой В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». М.: Изд-во полит. литературы, 1980. 175 с.
- Маркс К. Капитал. М.: Изд-во полит. литературы, 1978. Т. 1. 508 с.
- Hegel G W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse: (1830) / unter Mitarb. von Udo Rameil hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Hans-Christian Luckas // G. W. F. Hegel.Gesammelte Werke. Bd. 20. Felix Meiner Verlag. Hamburg, 1992. 692 S.
- Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1975. С. 53-426.
[1] Борьба между «ильенковцами» и «лифшицианцами» выпукло отразилась в статье Е. В. Мареевой [См.: 1], которая увидела в диалоге Лифшица с Ильенковым лишь спор двух марксистов и, симпатизируя второму, не согласилась с В. Г. Арслановым, так как он в своем послесловии к публикации этого диалога [См.: 2] бескомпромиссно выступил на стороне первого.
[2] Лифшиц объясняет внутреннее противоречие мысли Ильенкова его полемикой с Нарским и Дубровским: они не придавали значения различию между индивидуальным и общественным сознанием, что вынудило Ильенкова сосредоточить внимание именно на этом различии, оттеснившем на второй план различие между общественным бытием и общественным сознанием, которое он сам, как и Маркс, признавал неустранимым.
[3] Так, характеризуя противоположность своего диалектического метода гегелевскому логическому методу, Маркс заявляет: «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное (ideelle. – А. М.) есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» [8; С. 21].