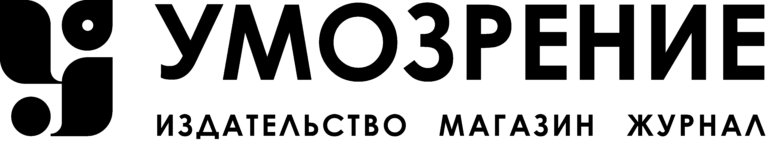О понятии свободы в учении Фихте и роли России в мировой истории. Интервью с А.А. Иваненко

Публикуем большое интервью с доцентом Института философии СПбГУ, переводчиком и специалистом по немецкой классической философии Антоном Александровичем Иваненко, которое взял у него наш коллега Артём Дудин в сентябре 2019 года специально для журнала «Умозрение».
О предварительных условиях освоения фихтевского понятия свободы
— Каковы предварительные условия освоения фихтевского понятия свободы? Имею в виду, что понятие — философское, а стало быть, мы не можем прийти к нему одним прыжком.
— В качестве первого условия я бы назвал нравственный настрой. Я говорю не о каких-то мистических вещах или якобы абстракциях, за которые материалисты долго критиковали идеалистов, в том числе Фихте и Гегеля. Я говорю о том, что существующие обстоятельства, отношения, в которых человек формируется, стимулируют или не стимулируют формирование нравственного настроя. Человек, который не настроен на то, что существует объективная, действительная правда, истина, на то, что возможно в той или иной степени реализовать её, не будет, конечно, тратить своё время на то, чтобы добиваться чего-то, что не касается его индивидуальной пользы. Такой человек быстро соскользнёт в индивидуализм, эгоизм, что не позволит ему достичь других предпосылок философии и, в частности, фихтевского понятия свободы.
— Этот нравственный настрой — вещь стихийная…
— В отношении него самого, да.
— К двадцати годам человек подходит с ним [нравственным настроем. — А.Д.], сформировавшимся в том или ином виде, и потому в этом возрасте этот настрой очень косвенно, если вообще, зависит от самостоятельных усилий человека. Однако ведь, помимо этого нравственного настроя, есть ещё какая-то внутрифилософская работа, которая должна быть проделана, чтобы подойти к Фихте…
— Да, это было лишь первое и неизбежное условие. Что же касается дальнейшего, то этот нравственный настрой должен повести, — и если он есть, то поведёт, — человека к вопросам более частного порядка, если сравнивать их с философией: к вопросам нравственной правды, возможности реализовать её и так далее. Разбираясь в них, человек может добраться до точки зрения искусства и религии, и это, будучи необходимым достижением, которого он должен добиться в своём духе, составляет вторую предпосылку. Третье же, если говорить непосредственно о Фихте, состоит в том, чтобы заинтересоваться философией, то есть пройти эти, не в обиду им будет сказано, более низкие, нежели философия, формы духа в поисках ответа на свои вопросы.
— Однако из этого ведь не следует, что проснувшийся к такой потребности в философии человек, — скажем, студент второго курса даже философского факультета, — как только он откроет, скажем, «Основы общего наукоучения» [произведение Фихте, излагающее основы его философии. — А.Д.], он тут же в него проникнет…
— Безусловно, да. Однако тут всё довольно-таки просто, поскольку мы прибыли на порог философии и на этом пороге прибывший сюда человек оказывается примерно в той же ситуации, в которой оказалась философия при своём возникновении. Соответственно, условие уже внутри самой философии для того, чтобы добраться до фихтевского понятия свободы, состоит в изучении истории философии. При этом необходимо, чтобы эта история изучалась не фрагментарным образом, согласно которому, мол, просто существуют различные учения, почему-то, каким-то образом исторически друг за другом следующие, где высказываются различные мнения. Понятно, что при первом знакомстве неизбежно, чтобы в восприятии содержания истории философии существовал оттенок этого, но если при этом преподавание философии будет исходить из единого целого исторического развития философии, то, — пусть даже поначалу и подспудно, когда изучающий философию индивид не сразу преодолеет то отношение к истории философии, о котором я сказал, — всё-таки в том, как она будет ему преподноситься, будут содержаться возможности для выхода из этого отношения. Ведь если и преподавание будет чисто фрагментарным, то только большое чудо может вывести его из представления о том, что философия — это какой-то набор мнений…
— Тогда это будут какие-то исключительные индивидуальные усилия плюс какое-то внутреннее чутьё, что их нужно совершить…
— Да, такой человек, которому так повезёт, будет, наверное, один на миллиард, один на миллион, от силы. Соответственно, третьим на пути к усвоению фихтевского понятия свободы условием будет преподавание истории философии, исходящее из понимания истории философии как целого. И по этой истории философии теперь необходимо будет добраться до Фихте. Про самого Фихте существует рассказ о том, как он пришёл к ощущению себя свободным. Именно, он в молодости, будучи студентом, был детерминистом. Ближе этот детерминизм я характеризовать не рискну…
— Говорят, он изучал Спинозу…
— Да-да, изучал Спинозу. Однако трудно сказать, спинозистский ли, несколько ли иной характер носил его детерминизм. В общем, был он детерминистом. Видимо, это было некоторым противоречием в его душе между его самоощущением и той сознательно исповедуемой позицией, которую он вынес из детерминизма. Есть его письмо, — написанное сразу после того, как он познакомился с кантовской философией, причём ему здесь несколько повезло, поскольку он начал знакомиться с ней с «Критики практического разума», то есть с той книги, которая у Канта ближе всего стоит к проблеме свободы, где он сразу мог увидеть, что свобода возможна, В этом письме он сообщает своему приятелю, что, мол, с тех пор, как я читаю Канта, я живу в новом мире. Так он открыл, что существует свобода, и она заключена в нравственном выборе, что нет нравственного автоматизма при всей природной детерминации, и это сделало его свободным, так что очень быстро после этого появилась его философия.
— Однако здесь есть такой парадокс: сам-то Фихте явно не начинал с изучения истории философии как целого. Во-первых, у него не могло быть такого преподавателя истории философии, который преподавал бы её как целое, поскольку только-только Кант выпустил «Критику чистого разума», где впервые вообще осознанно намечается философия как целое. Да, уже у Юма можно фрагментарно это почувствовать, но только у Канта намечается явно. Так что этого у Фихте не было. Более того, всю историю философии сам он также, кажется, не проходил: был прочитан Спиноза и ещё кто-то, но явно не всё. То есть Вам можно было бы возразить: сам-то Фихте не так вошёл в свою философию…
— Ну, да. Разумеется, у Фихте были несколько иные условия созревания до философии, до понятия свободы. Однако, во-первых, всё-таки буквально ничто повториться не может, в том числе и эта благоприятность условий. Во-вторых, условия были другого характера. Какого же?
В современном нам обществе вопрос нравственности обостряется, тогда как во времена Фихте его образовательная карьера и его общественно-значимый жизненный путь начался с интересного факта: он жил в небольшом местечке, даже не в городе, но оно было известно тем, что в местной церкви проповедовал довольно популярный в окрестностях проповедник. Один из местных помещиков как-то хотел попасть на эту службу, но опоздал, и один местный житель сказал ему, что не стоит сокрушаться, а лучше пойти и послушать у младшего Фихте эту проповедь. Фихте тогда было где-то шесть лет и он, не имея образования, не ходя в школу, был в состоянии воспроизвести эту проповедь, причём не механически, запомнив всё от слова до слова, нет, он саму мысль этой проповеди запоминал и воспроизводил. Помещик, услышав такой содержательный пересказ проповеди известного проповедника из уст шестилетнего ребёнка, понял, что имеет дело с выдающимся по способностям человеком, и в течение где-то пятнадцати лет после этого этот помещик оплачивал образование Фихте — сначала в школе, а потом в университете. Этим примером я хотел сказать, что, во-первых, в общественной среде Фихте присутствует религия: если в Париже и где-то ещё в центрах культуры и есть атеисты и сомневающиеся в существовании бога, то в глубинке этот вопрос не ставится. Существует традиционная община с традиционной нравственностью и существует жёсткая социальная иерархия, которую мы сейчас ругаем, говоря, что она несправедлива, однако в тех условиях она имела в том числе и воспитывающее, дисциплинирующее воздействие. Если бы Фихте стал вести себя социально неприемлемым образом, то на этом его образование и общественная карьера и закончились бы.
Сейчас же мы имеем дело с несколько иной ситуацией с обеих сторон. Во-первых, мы находимся во времена, когда и философия совершила некоторый прогресс, пусть и относительно короткий — до конца немецкой классики. Во-вторых, мы имеем дело с другой социальной средой, которая, я бы сказал, менее благоприятна для развития человека, чем та, в которой вырастал Фихте. Хотя здесь, конечно, требуются оговорки…
— Хотя бы та, что современная социальная среда ведь некоторым образом и порождена, является практической реализацией того философского понятия, которое возникло уже после Фихте. Имею в виду Гегеля…
— Нет, не думаю. Сегодня реализуется представление о свободе, которое не приобрело ничего особенного со времён как раз семнадцатого века…
— Это на Западе. Но у нас, в Советском Союзе, как раз пытались реализовать марксизм, который косвенно является отражением Гегеля, и Западный мир был вынужден как-то противодействовать и поэтому в свои порядки вносил…
— Теперь, поскольку марксистские государства прекратили своё существование, почти три десятка лет тому назад, мы видим откат к дикому представлению о свободе как о произволе. Подобного рода представление проповедовал и Лютер: свобода — это то, от чего отказывается верующий человек, поскольку он предаёт себя в руки бога, так что он не оставляет за собой произвольного выбора. Что за задачи в связи с его нравственным выбором встают перед ним (в случае Лютера это надо бы называть «религиозным» выбором, хотя, по существу, он всё равно — нравственный), то он и делает. Эта позиция у Лютера и Фихте очень близка.
Итак, традиционная нравственность разлагается, в том числе и сознательно: многие ведь считают, что она — некоторый пережиток. Отчасти же она разлагается стихийно, поскольку вступают в силу такие экономические отношения, которые размывают традиционные нравственные отношения. Процесс этот нарастает и выражается, в первую очередь, в депопуляции: научились власть предержащие как-то управляться с толпой, а заставлять её размножаться как-то не получается. Ну, не хотят подвластные размножаться, — ведь для этого опять же нужен нравственный посыл. Прошу прощения за столь частотное употребление слова «нравственность», но, однако, это так…
— Думал, Вы извинитесь за столь частое употребление слова «размножаться»…
— В том, чтобы размножаться, ничего дурного нет. Для этого, повторюсь, требуется нравственное желание. Удовлетворять свои половые потребности и размножаться не одно и то же. Это наглядно показывает современность, когда с помощью технических средств одно с другим разведено очень далеко…
— Да, однако мы сформулировали три предварительных условия для усвоения фихтевского понятия свободы: во-первых, нравственный настрой, во-вторых, поиск себя в искусстве и религии и, в-третьих, основательное знакомство с историей философии в целом вплоть до Фихте. Вместе с тем, мы видим, что, хотя сам Фихте такой путь и не проходил, но мы же — не Фихте…
— Нет, такой-то путь он как раз проходил. Последнего условия у него не было: он не проходил всю историю философии…
— Да, я как раз об этом…
— Тут ещё надо отметить следующее: да, сам Фихте не изучал историю философии в целом, но у него, во-первых, история философии была суммирована в виде современного ему религиозного учения, а также у него была и непосредственно предшествующая ему история философии: как минимум, семнадцатый-восемнадцатый век, которую он явно изучил.
— Однако я сталкивался с такими суждениями у Фихте, — кажется, в какой-то более-менее поздней редакции «Наукоучения», — что, мол, из всех, кто в истории философии был по-настоящему близок ко мне, к Фихте, был — Платон! Не Аристотель, который, при основательном знакомстве с ним, в этом отношении ничуть не ниже Платона, но, тем не менее, Фихте его к себе не присоединяет. Кстати сказать, и Кант в конце «Критики чистого разума», кажется, пишет, что среди эмпириков древности выдавался Аристотель, хотя понятно, что Аристотель — никакой не эмпирик…
— Да.
— Может, и Фихте здесь с Аристотелем «просел». Имею в виду, что, может быть, стихийно, как и Фихте, человек может дозреть до понимания философии, даже не проходя всего пути истории философии. Однако нам как изучающим философию post factum такое дозревание не гарантировано…
— Да. Я же уже сказал, что в религиозном учении, в религиозных представлениях многое из истории философии было суммировано. Ведь религия оказалась формой перехода от античности к Новому времени и недаром. Если мы возьмём какие-то другие этапы истории философии, каких-то других мыслителей, то мы зачастую встретим там какую-то специфику образования философов в этот период. Это будет связано с тем, что это за этап истории философии и какая индивидуальная подготовленность, индивидуальная форма духа требовалась для этого шага. В отношении Фихте дело обстояло таким образом, как мы с Вами говорим. Но я полагаю, что после Фихте и после Гегеля путь образования, который они проделали, — в особенности Фихте, — недостаточен.
— Имеется в виду религиозная подготовка?
— Да. Видите ли, то, что в университетах до девятнадцатого века называлось «философскими факультетами», — это ж, на деле, не аналог современного философского факультета. Это — один из четырёх факультетов в университете, как эта структура университета сформировалась уже в Высокое Средневековье, и он не был выпускающим факультетом. Все студенты, поступавшие в университет, поступали сначала на философский факультет, где они обучались пресловутым тривиуму и квадривиуму, а это — такая общенаучная и общеобразовательная подготовка…
— Вроде того, как мы сегодня изучаем на первых курсах университетов немного истории, немного психологии…
— Ну, характер образования там был другой. Первым, что тогда изучали, была латынь, потому что студенты ведь поступали с разной степенью знания латыни, а им требовалось очень серьезное знание латыни, поскольку вся наука, преподавание и общение в университете были на латыни. Соответственно, каждый, кто поступал в университет, её в той или иной степени предварительно изучал, но эта степень могла быть недостаточной. Второе, эти тривиум и квадривиум и были, собственно, всем, что они там изучали сверх того. В одну из этих групп, в квадривиум, входили математические знания, и эта часть, действительно, — аналог тому, что есть у нас в современном образовании, правда, это сейчас относится к школе: арифметика, геометрия, математизированная астрономия и то, что там называлось «музыкой», косвенно восходящее к Платону. Вторая же группа, тривиум, — это риторика, диалектика, названия которых нам сейчас не очень-то много говорят о характере того, что это было за обучение. Собственно, это было приобретение навыка a) чтения книг, b) их реферирования и c) дискутирования. В таком смысле это образование не очень похоже ни на нашу школу, ни на первые курсы нашего ВУЗа, но структурно оно, действительно, играло такую роль.
— Может ли это быть как-то созвучно пресловутому soft skills? Не по содержанию, но по духу и назначению?
— Это была такая специальная подготовка, без которой они не были бы в состоянии изучать дальнейшие науки. Сами эти навыки, разумеется, не были целью. На философском факультете преподаватели приобретали научные титулы, как то: магистра и т. д. (магистр — это уже было научной степенью, аналогичной современному кандидату наук), но, повторюсь, он не был выпускающим. Только-только поступившие в университет учились на нём, в среднем, два года, писали бакалаврскую работу по той философии в кавычках, которая из всего этого получалась: немного математики, немного естественно-научного знания и общей способности читать латиноязычные научные тексты, реферировать, дискутировать и т. д. Далее же они поступали на один из трёх выпускающих факультетов: теологический, медицинский и юридический. Так вот те, кто становился философами, начиная со Средних веков и до начала девятнадцатого века, — это в основном люди, заканчивавшие теологический факультет. Фихте, в частности, учился на теолога. Соответственно, специфика того этапа развития истории философии, на котором выступил Фихте, оказалась достаточной для того, чтобы он поднялся до этой точки зрения. Сейчас же у нас такого нет…
— Теология в университетах снова есть! Конечно, это, — скорее, шутка, чем замечание всерьёз…
— Да, но она такой роли не играет. Кстати, в России она и прежде не играла. Богословие в православии — это кое-что другое, чем теология на Западе, поэтому и не играло такой роли. У нас не было мыслителей, которые закончили бы семинарию и стали бы философами! У нас в девятнадцатом-двадцатом веках бывал обратный путь…
— Итак, у Фихте в наличии было и третье условие, но не в непосредственной форме: не было систематического прочитывания всей истории философии. Однако, поскольку христианская религия — это, так или иначе, уже не стихийная религия, а, так сказать, выработанная искусственно при помощи философии…
— Да, на основе античной философии…
— Да, это видно, скажем, по книге Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры», где половина книги — это, по сути, Платон и Аристотель…
— Через неоплатоников.
— Поскольку же Фихте был хорошо знаком с этими религиозными текстами, то и в сжатом виде, в-себе, он усвоил историю философии, да?
— Да.
Знакомство с историей философии как путь к фихтевскому понятию свободы
— Тогда мы органично переходим ко второму вопросу, ответ на который почти уже и есть: что сделать индивиду, который сегодня хочет подняться к понятию свободы у Фихте, чтобы достичь этого?
— Это, конечно, должно быть сознательное желание. (А если мы говорим об этих условиях, то, если отвечать в том ключе, в котором сформулирован вопрос, речь идёт о человеке, который сам захотел в этом разобраться, а не мы хотим создать ему условия, чтобы он, не зная пока ещё об этом, всё-таки добрался до фихтевского понятия свободы.) Стало быть, это — человек или находящийся на пороге, или уже вступивший в философию, иначе бы он не имел желания освоить понятие свободы, которое содержится в философии Фихте. Соответственно, требуется, как минимум, один раз совершить путь по истории философии: последовательно познакомиться с философскими учениями в истории философии. Я сказал: как минимум, один раз, потому что тогда, если стремящийся к фихтевскому понятию свободы человек это проделает, дойдя до Фихте, то он максимум стихийно ухватит справедливость понятия свободы, которое содержится в фихтевской философии. А чтобы его усвоить на другом уровне, одного раза достаточно уже не будет. С ним может произойти то же, что произошло с самим Фихте: он откроет для себя новый сияющий мир — без кавычек, без иронии, в буквальном смысле слова. Однако, чтобы усвоить его так, как Фихте его потом сам развил, или даже дальше пойти, потребуется ещё раз многое из истории философии и читать, и осмыслять.
— Понятно, что отношение будет противоречивым. Как Вы сами сказали, второй раз в ту же реку не войдёшь, и, подходя к понятию свободы Фихте, ты его уже не усвоишь так, как его усвоил сам Фихте: ты живёшь уже по прошествии некоторого времени, меняются эпоха и её дух. Здесь даже есть перспектива взглянуть на свободу глубже и лучше, чем сам Фихте.
— Думаю, да.
— Делать это, конечно, нужно ответственно и с хорошей подготовкой… Что ж, понятно: первые два условия, — нравственный настрой и знакомство с искусством и религией, — здесь предпосылаются, и индивид сам, искусственно для себя их создать не может. Третье же условие, изучение истории философии, находится целиком в ведении индивидуальных усилий и личности…
— Конечно, не целиком, но сознание необходимости этого здесь может быть, и человек, соответственно, может это предпринять намеренно.
Сущность свободы для Фихте и у Фихте
— Что же, наконец, такое свобода, с точки зрения Фихте?
— То, что Фихте называет «свободой» в своих сочинения, — это не то, что на деле в качестве свободы существует в его учении. Всё-таки о свободе в специальном виде он говорит в сочинениях, посвящённых человеку, истории, и там он говорит, что свобода есть только тогда, когда мы с Вами совершаем нравственный выбор. До того мы не свободны, поскольку подчинены природной необходимости, а когда мы нравственный выбор сделали, мы оказываемся уже в цепи нравственной необходимости и здесь у нас также выбора уже нет. Так вот «свободой» он и называет как раз вот этот выбор, причём не в пользу того или иного действия, а в пользу самого нравственного действия в принципе: осознания себя нравственным существом, осознания нравственных требований в себе и т. д. Вот, что сам Фихте называет «свободой». Я не разделяю этого взгляда на сущность свободы и полагаю, что даже в самом учении Фихте содержится более высокое понятие свободы, нежели то, которое он артикулирует сознательно. Здесь не столько понятие свободы, выраженное определённым образом, сколько дух целого.
— Какое же это более высокое понятие?
— Если мы будем вычленять это понятие свободы из философии Фихте, то речь должна идти о том, что свободен или свободно тот или то, что знает самого себя. Однако эта тема возникает, как минимум, с диалогов Платона, один из них прямо посвящён тезису о познании самого себя, разъяснению его. Однако хотя там и сказано очень много серьёзного и даже принципиально достаточного для того, чтобы это разъяснить, но дальнейшее развитие всё-таки и уточнение этого понятия происходит далее в истории. У Платона в этом диалоге речь идёт по восходящей от познания себя как специфической личности до познания мудрости и прекрасного в душе, божественной её части.
Что же до Фихте, то принцип его философии — это дело-действие, или, как он выражает это иначе, Я = Я, или Я есть Я. Принцип этот абсолютен, как говорит Фихте, и есть принцип всякого бытия и существования, каким бы оно ни было. То есть всякое существующее есть некоторое производное или форма существования этого Я = Я или дела-действия и, соответственно, имеет эту природу в себе. Что же сказано в первой характеристике этого принципа: в этом дело-действии, или что же сказано во второй: Я = Я, или Я есть Я?
— Что же?
— Во-первых, первая характеристика ближе к более ранним философским учениям, в частности к Аристотелю: когда последний характеризует первоначало, то одна из характеристик есть единство и даже, можно сказать, тождество возможности и действительности, и то же самое высказано в фихтевской характеристике дела-действия. Именно, принцип философии Фихте, охарактеризованный как дело-действие, есть источник самодействия: он есть и источник действия, и само действие, и результат этого действия, причём не в том смысле, что это — три разных или последовательных формы, но в том, что это — одно и то же. То, что само себя производит, и то, что есть самопроизведение. Это отвечает понятию первоначала, первопричины, потому что ничто другое первопричиной быть не может.
Вторая характеристика принципа философии Фихте: Я есть Я, или Я = Я — указывает на то, что первоначало соотносится с самим собой не только слепым образом, что оно есть знание самого себя. Здесь очень многое отсылает к Аристотелю. Ведь Аристотель в одном месте называет первоначало «мышлением мышления», и очевидно, что фихтевское Я есть Я имеет в виду то же самое. Соответственно этому второму определению принципа, всё, что есть, обладает характером Я, то есть самоотношением, и некоторым образом есть знание себя. В этом смысле оно несёт в себе природу первоначала в разной степени проявленности: скажем, проявленность этой природы в малолетнем ребёнке и зрелом муже, конечно, различна. Что же мы можем сказать о высшей степени этой проявленности, то есть о максимуме свободы, которая может быть? Сохраняя характер самопричинности, человек может дойти до той степени осознания себя, в которой он осознаёт себя в качестве этой самопричинности. Однако он — самопричина не в качестве вот этого индивида, а поскольку в нём раскрывается природа всеобщего. В первую очередь, как раз в нравственном выборе, с точки зрения Фихте, человек открывает природу первоначала в себе.
— Вы сейчас формулируете то, как сам Фихте понимает свободу?
— Нет, это я уже перешёл к тому, как она есть у него объективно, в качестве его принципа и даже всей системы.
— То есть то, что он сам осознал о свободе, есть как бы вершина этого «айсберга свободы». Нравственный выбор — это, как сказал бы Аристотель, завершение этой возможности. А всё объективное, о чём Вы говорили, — это реальная возможность этого выбора, что сам Фихте, видимо, не вполне понимал?
— Нет, я бы сказал, он довольно-таки чётко формулирует всё это. Речь идёт о том, что то, что мы себя сознаём и сознаём себя в качестве Я — это, разумеется, шаг в направлении того, чтобы осознать себя в качестве этой первопричины, первопричины в-себе. Однако то, как мы далее трактуем это Я, трактуем то, что себя осознаёт в качестве нас, и определяет то, какова здесь степень свободы. Каждая из этих ступеней — ступень развития свободы и, до некоторой степени, её реализации, но, по Фихте, вершина этого движения заключается в том, что мы открываем себе себя как нравственное требование. Мы не нравственные требования для себя открываем: да мало ли какие внешние требования бывают! Мы в себе открываем невозможность действовать иначе и то, что действовать нравственно — наше собственное желание. По Фихте, такой выбор тут же конкретизируется и в одной из своих работ, в «Основных чертах современной эпохи», Фихте выражает это следующим образом: каждый человек есть звено в цепи божественной жизни. Каждый в этой цепи находится, но находиться в ней можно разным способом: быть внешне принуждаемым к определённой деятельности, а можно совершить определённый нравственный выбор и оказаться деятелем этой цепи, агентом этого движения. Когда мы говорим о высшей свободе, речь идёт о последнем. Когда же человек совершает этот выбор: принципиально действовать нравственно, исходя из своих убеждений, он тут же оказывается в ситуации определённой нравственной задачи…
— Я уточню: выбор, насколько я понимаю, — не вполне адекватное определение свободы, поскольку то, из чего мы выбираем, нами самими и создаётся, так что выбор некоторым образом есть нечто искусственное… Впрочем, скажу иначе: не оказывается ли здесь выбор созвучным духу греческой трагедии? Ведь именно там выбор находит свою истинную реализацию. Действительно, в жизни человека бывают такие ситуации, где нужно именно выбирать, и нельзя соединить воедино две противоположности. Не всегда ведь мы на практике выбираем, но зачастую мы соединяем одно и другое вместе и находим их конкретное единство. Так вот объективный дух понимания свободы у Фихте как-то созвучен греческой трагедии?
— Думаю, он её превосходит. По Фихте, речь идёт не о выборе между альтернативными способами действия, а о выборе между индивидуалистическим, эгоистическим и принципиально нравственным действием. А когда избрано именно нравственное действование в принципе, мы оказываемся перед конкретикой нравственности в настоящий момент и автоматически обретаем определенную нравственную задачу.
— То есть вот это автоматическое обретение — это уже не выбор, а как раз соединение всего со всем в каком-то конкретном единстве?
— Да. А что касается коллизии греческой трагедии и почему это — собственно трагедия, то здесь имеет место коллизия между намерениями и желаниями действующего лица трагедии и тем, что с ним неизбежно вследствие этого происходит. Это — не тоже самое, что коллизия между эгоистическим и нравственным поступком, и, более того, трагедия — это, в некотором роде, демонстрация невозможности для человеческого духа быть воедино. Какую бы трагедию мы ни взяли, действующими лицами — на сцене, или за сценой — там будут боги, которые и есть побудительные силы для действий людей. Люди следуют требованиям богов и, следуя им, оказываются в этих коллизиях, которые и есть коллизии трагедии. Таким образом, в греческой трагедии с этой стороны констатируется малость человека, его неспособность знать судьбу и неизбежность для него попадания в эти коллизии и с этим корреспондирует представление о судьбе, которым античность и отличается. В отношении себя-то античные греки правы. Им ход событий, тем паче исторических, естественно, неясен. Они, действительно, совершают нравственный выбор и это у них рефлексируется в виде представления о действии богов на людей. Ведь если Аполлон требует от Ореста, чтобы тот отомстил за своего отца, то есть убил свою мать и дядю, которые убили его отца и лишили его наследства в виде царской власти, то здесь он следует определённым осознаваемым нравственным требованиям, которые, в некотором роде, новы по отношению к тому, что было до него. Однако это, естественно, вводит его в коллизию: ладно, он убивает дядю, но ведь он убивает мать, следуя этим требованиям. Тут же на него набрасываются Эринии, богини мщения, то есть угрызения совести, которые здесь неизбежны.
— Однако в третьей части этой, кажется, тетралогии, в «Эвменидах», показано и разрешение этой трагедии, то есть греки знали, как трагедию разрешать… Хорошо, можем ли мы тогда в нескольких пунктах резюмировать, с одной стороны, понятие свободы для Фихте и, с другой стороны, объективное понятие свободы у Фихте?
— Про первое я уже сказал: свобода понимается им как единственный раз в жизни существующий момент, когда человек может совершить выбор между эгоистическим и нравственным способами действия. Что же до действительного понятия свободы в его философии, из которого она вся, собственно, и сформирована, то здесь речь идёт о том, что свобода — это действие нравственное, но не в смысле одноразового выбора в пользу нравственного действия в принципе, а это такое действие, когда человек обнаруживает в своём духе задачи нравственного порядка, какими бы они ни были, и реализует их. Эти задачи зависят от того, в каком месте, положении истории самосознания находится этот человек.
— Соответственно, чем выше уровень его развития, в том числе интеллектуальный, тем более высокие нравственные задачи он ставит перед собой?
— Связанные с большей степенью самосознания, я бы сказал.
— Соответственно, если человек — Фихте, то он ставит перед собой задачу выступать с лекциями по философии, а если человек — врач, то он соответствующим образом лечит людей, и т. д.
— Без сомнения. Думаю, профессию врача люди выбирают всё-таки по нравственным причинам.
— Да, у них для этого есть какой-то внутренний стержень.
— Да. Другое дело, что можно более слепо осуществлять этот выбор, например, выбор стать врачом, а можно, осуществив это также неосознанно из чувства, затем найти этому разъяснение, в частности, при помощи философии: что это такое и почему это так? Можно, например, это и усложнить человеку, рассказывая, что его выбор стать врачом — это выбор определённой сферы услуг, что он — определённый «сапожник», который ради собственного гешефта якобы зарабатывает на здоровье других людей. Я лично так не думаю: суть профессии врача не в этом.
Россия и современная всемирно-историческая эпоха
— Каковы основные черты той всемирно-исторической эпохи, которую сейчас переживает именно наша страна.
— Сам вопрос не даёт возможности умолчать о всемирно-историческом процессе.
— Я так спросил потому в том числе, что сам же Фихте пишет, что один и тот же индивид, живя, казалось бы, в одну всемирно-историческую эпоху, может духовно пребывать в совершенно другой. Фихте духовно был выше своей эпохи, иные же люди духовно до сих пор пребывают в начале Средневековья…
— Сейчас есть страны, которые, скажем так, находятся в несколько иной эпохе, нежели основные страны мира, и это как раз — наиболее отсталые страны: некоторые, но не все страны Латинской Америки, большинство стран Африки и какие-то страны Индокитая. Наша страна к их числу не относится. В ней основные черты современной эпохи вполне реализованы сегодня. Поэтому говорить о том, в какой эпохе находится она внутренне, нельзя не говоря о том, в какой эпохе находится мир.
По фихтевской классификации, историческая эпоха, в которой сейчас пребывает мир в целом, — третья эпоха. В «Основных чертах современной эпохи» Фихте указал пять основных эпох исторического развития человечества, а своё время причислил к третьей эпохе. Думаю, с тех пор в смысле смены эпох ничего не изменилось. Пять эпох, в которые, по Фихте, укладывается всё историческое развитие, это — эпохи очень крупные, в том числе по временной продолжительности. Так что двести лет, которые прошли со времён Фихте, ничего в этом отношении не изменили. Чем же характерна эта третья эпоха? Фихте даёт ей двойственную характеристику.
Во-первых, это — средняя эпоха в истории, находящаяся, соответственно, между второй и четвёртой, первая и вторая и четвёртая и пятая составляют, по Фихте, более тесные единства друг с другом, а вот третья как находящаяся между этими двумя блоками эпох является переходной от первого блока ко второму. Как переходная она имеет неоднозначную природу. Во-первых, Фихте говорит о том, что максимой, базовой установкой этой эпохи является требование признавать в качестве существующего и значимого только то, что ясно и отчётливо познано, и говорит, что эта максима тождественна максиме истинной науки, в какой бы частной форме она ни выступала, ведь исходит из того, что то, что будет ясно и отчётливо познано, то и есть!
— В том числе и нравственно.
— В том числе и нравственно, если эта наука касается нравственности. Это, вроде бы, положительная характеристика современной эпохи. Однако другая характеристика состоит, по словам самого Фихте, в том, что это — эпоха «законченной греховности», полного отсутствия интереса к идеям. Две эти характеристики современной эпохи, по Фихте, связаны таким образом, что, хотя эта эпоха и требует познания всего разумом и один только этот разум и признаёт в качестве мерила всякой реальности, эпоха не понимает, что разумному пониманию надо учиться и что разум и понимание — это не то, что достаётся нам в готовом виде (в виде т. н. здравого смысла, здравого рассудка). Всё, что такая точка зрения, выставляющая себя в качестве разумной, а на деле — чисто рассудочная точка зрения, признаёт — это чувственно-ощутимая, единичная реальность. Она признаёт всё то, что имеет значение для индивидуальной жизни, поскольку, конечно, как тело, как индивидуум каждый человек должен иметь эти индивидуальные условия своего существования: я дышу не «воздухом вообще», я вдыхаю…
— Вот этот вот воздух.
— Да. Я живу не в доме вообще, но у меня должно быть конкретное жильё, а также пища, вода и так далее. Сохранение нашей индивидуальной жизни связано с этими единичными предметами, которыми и оперирует чувственно-рассудочное мышление. Такую точку зрения эта эпоха и признаёт за разумность, за мерило всего и вся, и поэтому в нравственном плане она и превращается в то, что Фихте характеризует как «законченную греховность». Потому что, говорит он, идеи касаются жизни рода, а жизни индивида как индивида касаются единичные вещи и поэтому эта эпоха признаёт только индивидуальное. Всякое отношение к чему-то неиндивидуальному, конечно, здесь начинает признаваться за химеру, выдумку, за что-то недействительное. Если говорить о науке, то это — доминирование плоского эмпиризма. В нравственном же плане это — падение всякого рода институций, объединений и так далее. Однако подчеркну: эта эпоха — переходная и необходима как переход к более высоким эпохам, и поэтому то, что я вслед за Фихте характеризую нашу современную действительность таким негативным образом, на мой взгляд, во-первых, объективно в отношении неё, а во-вторых, то, что эти черты объективно присущи современной России, указывает на то, что потребность выхода из этой ситуации будет нарастать. Так что это — признак не только какого-то упадка, но и основание надежд на будущее, причём, быть может, не такое далёкое.
— Давайте всё же ещё уточним: что Фихте понимал под «идеями», которые противостоят единичной реальности?
— Они ей не противостоят. Так их отношение может рассматривать как раз индивидуалистическая точка зрения. Они, как говорит Фихте, касаются жизни рода в целом. Как я говорил, человечество, по Фихте, — это цепь божественной жизни. Каждый отдельный индивид, соответственно, — это не нечто, что противостоит целому, но нечто, в чём целое выступает каким-то специфически ему присущим образом. Рассматривать отношение между индивидом и идеями как противоположность индивидуального и общего — такой взгляд как раз присущ той точке зрения, которая полагает, что индивид — человеческий ли, или какой-либо другой — существует сам по себе и посредством себя как индивида. — Он существует посредством себя, но не посредством себя как индивида, а посредством себя как особенного определения всеобщего. Так что то, что идеи касаются жизни рода, не означает, что они потусторонни индивиду. Они…
— Во всяком случае, Фихте явно понимает идеи не как Кант, то есть не как регулятивные правила разума, в отличие от правил рассудка или силы суждения. Однако понимает ли их Фихте так, как их понимала античная философия, которая, насколько ясно мне, понимала их как понятие в его действительности? Насколько я понимаю, [объективно. — А.Д.] самая элементарная форма идеи у Платона — это душа, жизнь. Так же ли понимает идеи и Фихте, или же, поскольку он не признаёт природу всерьёз как предмет философского исследования, идеи носят у него какой-то другой характер?
— Это не является предметом внимательного отношения Фихте. Так что то, что я упомянул, — это, практически, единственное, что там можно найти у него об идеях.
— Быть может, идеи у Фихте как-то связаны с продуктивным воображением? Вы же как раз переводили его работу под названием «О различии духа и буквы в философии»…
— Нет-нет, в фихтевской гносеологии, в разработке способностей субъективного разума идеи, насколько я помню, вообще никакой роли не играют. Упоминает он о них только как о цели развития человечества и в связи с философией истории и именно только в том ключе, о котором я сказал: идеи — это некоторое надындивидуальное содержание, касающееся жизни человечества в целом, а не индивида как индивида. Конечно, здесь можно видеть некоторый отголосок того, о чём говорит в отношении идей Кант в своих «Критиках», в первую очередь, в «Критике чистого разума»: что идеи — это нечто абсолютное, безусловное и т. д. Однако специально ничего более сам Фихте об этом не говорит.
— То есть мы от лица Фихте не можем ближе определить, что такое идеи, да?
— Да.
— Тогда давайте сжато резюмируем, какова же всемирно-историческая эпоха, в которую живёт сейчас наша страна?
— Это эпоха, в которой происходит самосознание разума, но пока происходит как самосознание индивидуального. Из-за этого, присущего понятию этой эпохи, несоответствия трактовки разума тому, что такое разум в действительности, современная эпоха должна перейти в следующую эпоху: эпоху, как её называет Фихте, разумной науки, когда и осознаётся, что такое разум в действительности.
Коллективное и индивидуальное в России
— Какова, согласно духу фихтевской философии, специфика протекания этой эпохи в нашей стране? Ведь в разных странах эта эпоха индивидуализируется по-разному…
— Это — правильный вопрос. Ведь национальное, страны, народы — это образования духовные, а не биологические. Страны, нации, народы возникают в определённый момент истории и выступают как носители определённых содержаний и, кстати, в связи с тем, что моменты соответствующих нравственных задач оказываются решёнными, эти народы, страны и нации исчезают. Если Фихте и говорит об этом не очень подробно, то, я думаю, что высказываюсь в духе его философии истории, потому что он, например, указывает на специфику французского языка и вообще романских языков Европы, с этим связывает специфику духа данных народов, этих носителей языка и привязывает ее к определённому историческому моменту и его задачам. Таким образом, вопрос о российской специфике вполне корректен; это конечно уже выходит за пределы того, о чём писал Фихте. Да, он говорит о будущих четвёртой и пятой эпохах, но конкретных путей того, как это произойдёт, разумеется, знать не мог, хотя и пытался, по мере своих возможностей, создать для этого некоторые условия.
— Разумеется, не мог знать.
— Да, конечно. Западноевропейские народы, в основном, остаются в пределах третьей эпохи. Хотя они и породили философию, которая выходит за пределы этого духа, но в области объективно-исторического у них, по крайней мере, пока не очень получается выйти за эти пределы. Более того, в той мере, в какой они вышли за эти пределы, этот выход связан с тем, как в двадцатом веке на исторической арене выступила Россия. Их поправки к чистому капитализму, индивидуализму и т. д., которые (поправки) были сделаны в двадцатом веке в их общественной практике, отчасти в сознании, во многом были связаны как раз с существованием Советской России…
— Которой надо было противостоять…
— Да. Иначе вышеуказанные поправки не были бы совершены и, как мы видим в последние тридцать лет, как только это условие (существование Советской России) исчезло, вся их политика, в том числе и внутренняя, пошла в прежнем направлении, и чем дальше, тем хлеще.
— Да, это заметно, если, скажем, читаешь такой американский журнал, как The American Conservative, где дух таков: «Мы — деградируем!» Причём они сознают, что начали деградировать, как закончилось противостояние с Советским Союзом.
— Без всякого сомнения. Я полагаю, что третья эпоха где-то на излёте. Она оказалась более продолжительной и потребовала выполнения больших условий для своего завершения, чем полагал Фихте, но я не думаю, что это очень существенно. Принципы третьей эпохи, которые указывает Фихте, оказываются самопожирающими. Они уничтожают почву, на которой и благодаря которой они возникли. Либо они её пожрут и ничего не останется, либо произойдёт перемена. Россия же не очень приспособлена к тому, чтобы устойчиво строить какие-либо общества на основе принципов третьей эпохи. С одной стороны, мы видим, что и в девятнадцатом веке — на разных идеологических базах — в России возникали возражения против западного индивидуализма ли, капитализма, эгоизма ли, но всё время возникали. Некоторое недовольство этим возникало и в странах Запада, но только мы дошли до того, чтобы построить некоторую прогрессивную альтернативу этому капитализму как общественной системе, соответствующей эгоистическим и индивидуалистическим принципам. Думаю, что никуда нам не деться от продолжения этой попытки. Думаю, что всё-таки мы в ответах на первые вопросы говорили о предпосылках раскрытия понятия фихтевской свободы для себя, и это несколько мешало, потому что, конечно, речь здесь может идти об индивидуальных усилиях в этом направлении, но всё-таки более решающими оказываются не индивидуальные усилия, а некоторое иное устройство общественных отношений. Поэтому никуда не деться от того, чтобы предпринять реформацию существующих общественных отношений, думаю, что из всех ведущих стран мира Россия, быть может, наиболее к этому расположена.
— В чём же конкретно состоит эта расположенность? Как я понимаю, как явное выражение этой расположенности сюда может быть отнесён и советский опыт: ведь мы сделали это [создали более совершенную, нежели все предшествующие, форму общественных устройств. — А.Д.], точнее начали, но ещё не доделали, бросили на время, но, тем не менее, это уже о чём-то свидетельствует. Сейчас у нас междувременье: мы якобы закончили в Советским Союзом, и сейчас у нас тут другой порядок. Однако, тем не менее, не несёт ли какой-то специфически российский оттенок даже этот другой порядок, с точки зрения духа философии Фихте?
— Думаю, да. Такой дикий капитализм разрушителен, конечно, не только в России. Неурегулированность этих отношений всегда возникала в периоды буржуазных революций, сразу после них и быстро заканчивалась. В этом смысле, если мы смотрим на историю России, то видим, что присутствует некоторая аналогия. Это, по всей видимости, некая универсальная общественно-политическая тенденция. Однако формирование духа отдельных народов, как я уже сказал, связано с тем историческим моментом, в который они возникают, но это связано не сугубо с хронологией и исторической необходимостью, но ещё и с пространственной и географической спецификой. Российская же территория — это север, и немалая её часть, с точки зрения остального мира, — это крайний север. Помимо же того, что это север, это ещё и не слишком плодородные земли. Большая часть территории России — это либо не пригодные к земледелию территории, либо так называемая зона рискованного земледелия, когда, конечно, можно заниматься земледелием, но всегда есть риск, что ты не получишь результат. Это — первое.
— Так, а в чём же состоит второе?
— А второе состоит в размерах этой территории. Если Вы посмотрите на пейзажи Западной Европы, то поймёте, что там больших территорий и нет, разве что только во Франции есть более-менее большие просторы и то не в российских масштабах. Эти гораздо меньшие, западно-европейские территории обладают резко выраженной спецификой: если мы возьмём какую-нибудь западно-европейскую страну, каждая из которых по российским масштабам, вообще говоря, мала, то обнаружим внутри каждой из них несколько территорий, довольно-таки серьёзно отличающихся друг от друга климатически и геологически. Например, в Испании с одной стороны будет средиземноморское, а с другой — северо-атлантическое побережье. Между ними будут, хотя и не очень высокие, но всё же горы; север вдаётся в достаточно высокие горы, в Пиренеи, а на юге — почти африканская по климату и т. д. территория. Будет и территория, которая мягко перетекает во французский приморский край, — Каталония. Всё это — очень сильно отличающиеся территории на очень небольших масштабах. Если же мы рассмотрим различие климата и географии между странами западно-европейскими, то оно будет ещё большим на также, в общем-то, небольших территориях: вся находящаяся за пределами наших границ Европа сопоставима по своим масштабам с нашей европейской территорией, и в зарубежной для нас Европе существует мощнейшая географическая, геологическая дифференциация. У нас же воздух, который идёт с Северного ледовитого океана, доходит до Ростова, до Воронежа, где зимой стоят вполне серьёзные холода, хотя, извините, где Архангельск, откуда это идёт, а где — Воронеж? Это — специфика нашего климата, связанная с географией, геологией.
— Русские просторы!
— Да-да. Это второй фактор, природная основа для существования русского народа и российского государства. Оба этих фактора требуют того, что, конечно, в разных культурах существует, но в разных масштабах в своё время были и исчезло.
— Я что-то упустил: что было первым фактором?
— Первым фактором был холод… Соответственно, на наших территориях даже при нынешнем развитии технологий, индивидуализм имеет гораздо меньшую почву для развития, потому что попросту выживание индивида здесь гораздо более зависит от преуспеяния общины в целом. Конечно, это универсальная закономерность: первые цивилизации — египетская, цивилизации Междуречья или, чуть позже, в долинах Ганга и Инда или крупных китайских рек — они могли устойчиво производить решающее для существования цивилизации — продукты питания, но только при условии осуществления ирригационных работ, а при том развитии техники это можно было делать только коллективным образом. Так что эти государства были выстроены пирамидальным образом, и никакой альтернативы для этого не было. По мере технического развития цивилизации возможность её устойчивого существования распространялась и на более неблагоприятные части Земли и, в частности, на территорию России.
— Так.
— Надо сказать, что на территории России ещё с античности возникали государства: царства скифов, Золотая Орда, Хазарский каганат и т.д., но ни одно из них при тех условиях хозяйствования, материально-производительных сил не смогло стать устойчивым. Первым — и надеюсь, последним, — кому это здесь удалось, стало российское государство. Впрочем, здесь есть ещё и следующее обстоятельство: как я сказал, возникновение цивилизации на новых территориях связано с тем, что развитие материально-производственных сил доходит до того, чтобы эти территории устойчиво оказывались освоенными людьми. Это — совершенно «железная» закономерность. Так вот первым этапом этого развития обязательно будет определённый вид прямой зависимости жизни индивида от жизни государства, общества в целом.
— Да.
— В этом смысле мы повторяем эту закономерность. Но! В связи с первым фактором, о котором я сказал: относительной неблагоприятности нашего климата и специфики географии — мы на арену цивилизации вступили, можно сказать, последними. Претендовать на то, чтобы быть новыми актёрами в мировой драме, могут ещё страны Латинской Америки и Африки. Но пока они таковыми не являются. Китай, Индия, Индокитай — это всё гораздо более старые цивилизации. Вспомним здесь притчу о виноградарях: работники приходили на работу не одновременно, а последовательно друг за другом, и при расплате пришедшим последними заплатили столько же, сколько и пришедшим ранее. Когда же пришедшие первыми не удовольствовались этим, им заявили, что последние станут первыми и всё такое… То есть! Конкретная цивилизация, я сказал, выступает на определённом этапе общемирового развития и населяющие соответствующую территорию племена, народности формируются в нацию в связи с тем, что они выражают определённый дух и этот дух решает определённую задачу всемирной истории. Россия же сформировалась позже западноевропейских и, надо сказать, северо-американских, между которыми разницы именно по духу не вижу, стран, и, после того, как решены выдвинутые западноевропейским духом проблемы, перед ней встаёт следующая задача. Думаю я, что совпадает здесь преодоление возникающих из духа третьей эпохи проблем и никуда нам в этом смысле не деться: придётся искать пути построения общества не на принципах индивидуализма.
— Сама специфика нашего климата и географического положения, стало быть, и диктует специфику реализации свободы?
— Не то, что бы диктует. Она создаёт те условия, при которых здесь сформировался определённый дух, а не какой-либо другой.
— Но только в этих географических и климатических условиях дело? Или же есть что-то ещё?
— Так я же сказал, что здесь…
— Я не расслышал.
— Я старался не быть слишком многословным и потому упомянул об этом кратко. Я сказал, что есть простое ограничение при освоении земли, и для того, чтобы люди вообще могли на ней жить, и чтобы в частности на той или иной территории возникала и развивалась цивилизация. Сказал, что в связи с тем, насколько неблагоприятны те или иные условия, то чтобы хотя бы просто как-то жить на той или иной территории, или же чтобы на ней существовала цивилизация, необходим соответствующий уровень материально-технического развития. Например, сейчас мы под Санкт-Петербургом экономически оправданно строим теплицы и выращиваем в них овощи. Сто лет назад это экономически не особо было бы оправдано, двести — вообще не могло быть этого и как раз из-за материально-технического состояния! Повторю: когда человечество материально-технически сможет освоить конкретно какую-то территорию, сделать её пригодной именно для цивилизованной жизни, а не просто для жизни, тогда и возникают на ней цивилизации, и делают они это не случайно, а последовательно, соответственно с развитием человечества. Здесь есть две компоненты, которые ведут к возникновению каждого конкретного народа, нации, страны, и России, в частности: исходно это — природа (география, особенности климата, геологии), второе же — это определённая ступень материально-технического развития, требующаяся для освоения именно этой территории, и эта ступень достигается цивилизацией в определённый исторический момент. Таким-то образом, в определённый исторический момент на этой территории с её спецификой формируется цивилизация со специфическим духом населяющих эту территорию народов. Вот и получается, что специфический дух определённых народов отвечает на определённый исторический запрос в развитии человечества в целом.
— Так-так, то есть мы конкретизируем понятие третьей эпохи уже на нашей почве через, во-первых, именно наши специально-технические условия: наши паровозы, наши железные дороги с нашей шириной колеи, и даже в первую очередь, — наши технические учебные заведения, которые готовят инженеров, пригодных для работы в наших условиях. Во-вторых, — через наш особенный климат. Однако я-то, когда спрашивал, имел в виду, скорее, не эти внешние, объективные условия, а, скажем, специфику самого формирующегося в них духа. Например, российский либерализм — совсем не либерализм в западном смысле, а специфический либерализм. Такого рода имел я в виду особенность нашей почвы.
— Русский дух в связи с историческим моментом, в котором он существует?
— Да!
— Это вещь непростая. Если мы будем отталкиваться от последнего, то русский либерализм не тот же, что западный либерализм, русский капитализм не тот же, что западный капитализм и т. д. Говорит-то это, впрочем, не так много: думаю, сторонники неолиберализма в Бразилии тоже несильно похожи на свои прототипы в Западной Европе. Это ещё не какая-то русская специфика, но связанная с тем, что центром капиталистического хозяйства и международного политического устройства, основанном на этом хозяйстве, являются не они и не мы, а являются как раз США и Западная Европа. Для последних это — наиболее аутентичная форма существования, так что существующая у них связанная с этим идеология наиболее адекватна их, граждан США и коренным жителям Западной Европы, способу мышления. Нам вот — не очень, бразильцам, думаю, тоже…. Как я уже сказал, в каждой возникшей цивилизации сперва доминирует целое, иначе даже и не выживет индивид, а потом эта цивилизация через последовательные этапы своего развития переходит к самостоятельности индивида, к его относительной независимости от целого, от своей общины, государства и т. д. В истории достижение последнего из только что описанных этапов развития вело такие государства, народы, нации к распаду.
— Так.
— Я думаю, что это не неизбежность.
— Не неизбежно для нас?
— Вообще не неизбежно! Разумеется, для нас тоже. Думаю, переход к четвёртой, пятой эпохам, по фихтевской классификации, если скажем коротко, заключается в том, что становится доступен разумный способ мышления. Если же говорить конкретнее уже в общественном отношении, то построенное на принципах разума общество, в том числе и с точки зрения Фихте, таково, что в нём не отрицается индивид и его потребности, но, наоборот, происходит то, что Гегель называет «снятием». Индивид и его потребности занимают своё место, но перестают быть доминирующим принципом. Частное — будь это отдельный индивид или же корпорация, сословие — перестаёт быть целью существования целого. Сохраняется, но перестаёт быть целью. Вот и получается, что специфика нашего возникновения — и природная, и исторического момента — как раз и связана с тем, что здесь дозревают условия для того, чтобы было создано такое общество: неиндивидуалистическое, коммунитарное и в котором индивид — только подчиненный момент. Хотя, конечно, условия для создания такого общества многообразны и сложны. Однако, думаю, с каждым шагом мы к этому приближаемся, и вижу возможным, что Россия сыграет здесь одну из центральных ролей, если не центральную.
Россия как субъект реализации имущественного равенства во всечеловеческих масштабах
— Какова, с точки зрения духа философии Фихте, специфика осуществления свободы в так понятом специфически российском содержании нашей эпохи?
— Опять же всемирно-исторические задачи и российская специфика взаимосвязаны, потому что, если мы говорим о том, что России принадлежит или может принадлежать какая-то значительная роль в дальнейшем развитии человечества, то это одновременно — и одно, и другое, и всемирно-исторические задачи, и специфическая пригодность России к их осуществлению. Фихте говорит — поскольку я с ним большей частью согласен, то буду излагать это и как фихтевскую, и как свою точку зрения — как раз в «Основных чертах современной эпохи» о том, что есть три типа государства и три этапа в развитии государственности. Отличаются они между собой в следующем. Во-первых, в том, какие права и обязанности и какому кругу людей в этом государстве принадлежат.
— Так.
— Первый тип государства и первый этап в развитии государственности состоит в том, что политические права принадлежат минимальному числу людей. Это вовсе не означает, что все остальные граждане государства являются их рабами. Это означает, что властвующее меньшинство имеет эти политические возможности потому, что исполняют определённую, востребованную обществом функцию. Говоря конкретнее, осуществляют функцию внешней защиты и минимальной регуляции отношений внутри общества. За это они и получают права политического решения. Однако их контроль в отношении остальных граждан минимален. Такова, например, была ситуация в Киевской Руси до Владимира или во Франции в ранние века ее истории, когда княжеский или королевский двор, главным образом, путешествовал по стране, потому что никакая из частей страны его не прокормила бы, так что он просто кормился. Собираемая ими дань состояла отчасти в том, что их просто кормили, а отчасти в том, что они получали ещё что-то сверх того. За это они, во-первых, защищали остальных граждан государства, потому что это, в основном, была боевая дружина, которая и защищала своё население от каких-либо внешних посягательств. Во-вторых, они решали те или иные споры между частями страны или же между какими-то слоями населения, то есть они совершали суд. Подвластные ждали год, пока двор совершит очередной круг и приедет к ним за данью или на постой и одновременно будет решать возникшие вопросы, споры. Итак, это — первая форма, когда граждане несут перед государством определённые, но относительно небольшие повинности, которые требуют относительно небольшого усилия для своего исполнения. Вспомним историю про княгиню Ольгу и её мужа, который, отправившись собирать дань повторно, вместе со своим отрядом был просто убит своими подданными. Нечто подобное, естественно, чуть раньше, чем у нас, было и в западноевропейских странах…
— Подобное произошедшему с князем?
— Тому, что было с княжеской властью в древней Руси… Итак, здесь относительно небольшая часть усилий граждан государства была направлена на цели государства, а, с другой стороны, государство в относительно небольшой мере гарантировала им что-либо или направляла их усилия на что-либо. Второй этап развития государства и вторая форма государственности, когда первый и второй момент, взаимные обязанности граждан и государства усиливаются… Но! Здесь декларируется равноправие, тогда как в первом типе государства дело представляется так, что неравноправие укоренено в самой природе! Вот эти представления о…
— Божественном происхождении…
— Да, представление о божественном происхождении власти, родов и вообще о качественно разной природе граждан государства. Например, если внимательно посмотреть на слово «благородный», то увидим, что «благородный» означает «из благого рода». Это как раз — от представления, что от природы, от рождения люди разнокачественны. Эта форма представления о гражданах государства отвечает первому типу государства. Во втором же типе государства наступает формальное равноправие, признаётся, что все люди равны и в равной степени имеют права и обязанности. Однако это равноправие только формально, а в реальности равноправия нет, потому что набор, количество прав в таком государстве у каждого зависит от его имущественного положения. Это формальное равноправие в реальности оказывается неравноправием. Мы, в общем, и наблюдаем это в современном государстве: судиться с Абрамовичем мы, конечно, можем, но вряд ли…
— Но у нас не хватит денег.
— Да! Нам не удастся мобилизовать столько ресурсов, чтобы завершить с ним спор в суде победой. Подобных проявлений этого много и указывать их скучно.
— Да, не нужно.
— В третьем же, по Фихте, типе государства наступает реальное равенство прав и обязанностей, причём у всех граждан этого государства в одинаковой степени. Мера, которую Фихте для этого предписывает, — это равенство имущества. Как видите, мера эта совершенно совпадает с предписываемой Марксом.
— Так.
— Соответственно, специфически российский вклад в современную эпоху довольно-таки очевиден. Разве что я бы оговорил то, что, я думаю, полное равенство имущества не является желательным и наилучшим разрешением этой проблемы равенства прав и обязанностей между всеми гражданами государства. Думаю, что относительное, небольшое неравенство имущества можно допустить. Вся та специфика России, о которой я говорил раньше, делает нас способными на эти действия…
— К созданию имущественного равенства и при небольших отклонениях от него?
— Да, роль государства, которая вне наших желаний, поневоле всегда оказывалась у нас сильной, — это некоторая предпосылка для того, чтобы мы были способными внести решающий вклад в движение мира как целого в том направлении, о котором я сказал.
— Это и с точки зрения Фихте?
— Это если экспонировать точку зрения Фихте на нынешние обстоятельства, о которых он не знал, и на существование России, которое он не очень учитывал в своих исторических исследованиях.
— В ту эпоху, когда он этим занимался, Россия ещё и не так что бы себя проявила.
— Разумеется, Россия уже тогда проявила себя. Но в одном месте Фихте говорит о славянах, что это ещё…
— Кажется, как раз в «Основных чертах современной эпохи» он говорит, что они [славяне. — А.Д.] ещё не достаточно проявили себя, чтобы судить о них…
— Да, он взвешенно говорит. Кстати, Гегель в этом смысле поступает более опрометчиво, просто отрицая за славянами какое-либо дальнейшее дело. Всё в истории, с точки зрения Гегеля, заканчивается германским миром, и всё чудесно.
Диалектика всеобщего, особенного и единичного в истории
— Какова диалектика единичного, особенного и всеобщего на ближайшем шаге развития свободы в России, с точки зрения духа философии Фихте? Под единичным, особенным и всеобщим в этом вопросе имеется в виду содержание объективного духа, общества.
— Так…
— Если иллюстрировать какими-то представлениями, то речь идёт, скажем, об индивиде, корпорации и государстве…
— Говоря о всеобщем, я бы всё-таки говорил здесь о человечестве. Отвечая на предыдущий вопрос, я уже начал было говорить об этом, а сейчас продолжу. Именно, равенство ведь требуется не только внутри какого-то отдельного государства или общества, — требуется равенство мировое. Сейчас мы видим, что началась и уже десять лет идёт очередная попытка перетягивания каната вот в каком смысле. У нас есть общемировой продукт, который производит всё человечество в целом, и до недавнего времени была страна, которая, в определённое время оказав помощь развитию мировой торговли, захватила контроль над мировой торговлей.
— Ах, что же это за страна такая?
— Мы знаем, что это за страна, и я этого не скрываю. В международных экономических и политических отношениях у нас царит жуткое неравноправие, царит право богатого и сильного. В данном случае я разделяю взгляды Маркса в том плане, что переход к новой эпохе человеческого существования должен быть глобальным и должен быть совершён во всём мире, пусть и не моментально, но во всём, в конечном итоге. Поэтому должно наступить перераспределение мирового продукта согласно этому равноправию. Это будет важнейшим условием для того, чтобы перераспределение мирового продукта и прав совершилось и внутри стран, которые составят человечество при его переходе к новой исторической эпохе, или, по крайней мере, наступление равноправия внутри этих стран вступило бы на новый этап. Таким-то образом, объективно всеобщее — это объективно существующее человечество…
— Ближайшее же его развитие состоит в реформировании экономических отношений?
— Экономических и политических отношений.
— В направлении к этому имущественному относительному, но всё-таки равенству?
— Да! Все части света, все страны мира должны получать примерно одинаковые условия для своего существования. Однако здесь царит грабёж, очень большая часть мира ограбляется в пользу остальной части. Согласно статистике, американцы якобы производят пятнадцать процентов мирового продукта (чего на деле нет: цифра это получается за счёт того, что через корпорации и т. д. они овладевают результатами производства в очень многих частях мира), однако, даже если мы возьмём эту цифру за истину, существует и другая цифра: тридцать процентов мирового потребления приходится на США. Очевидно, что никакой справедливой пропорции тут нет. Осуществляется это, понятно, за счёт того, что накопленные материальные ресурсы и мировые политические рычаги позволяют осуществлять это перераспределение в свою пользу. Это исторически понятно, и история не поле для моральных суждений.
— Да, делать что-то, в любом случае, надо. Что толку горевать?
— Оно некоторым образом происходит так, как только оно и может происходить. Однако сквозящий во всех частях нашего сегодняшнего разговора вопрос связан с тем, что свобода, как я сказал, присутствует во всех формах человеческого бытия, по Фихте. Впрочем, эти формы человеческого бытия очень серьёзно различаются и как раз в том отношении, насколько свобода осознана. Соответственно, если история — это процесс слепой, стихийный, и по отношению к тому, что происходит таким образом, мы, хотя и можем вносить какие-то моральные оценки: какой плохой был Брут! какой недобрый был Сталин! — но это глупо. Во-первых, вы сами себе приписываете знание истории на уровне того, что должно быть, а также приписываете ему (Бруту, Сталину и т. д.) способность это знать, и потом морально судите, что он, гадина, понимая всё это и будучи способен на такой же моральный выбор, что и вы, его не совершил!
— Да даже если мы примем то, что мы всего этого не знаем, какая теперь разница? Каким бы ни был он, этот, к примеру, Сталин, он уже был.
— Прошлое, конечно, не избавляет нас от возможности выносить оценки. Другое дело, что такого рода суждения — это неумно… Итак, если мы понимаем, в чём состоит реализация реальной, а не формальной свободы, то ситуация изменится. Как минимум, каждому будет по труду. Пятнадцать процентов мирового потребления — это такая сумма…
— Тридцать процентов, Вы имеете в виду?
— Нет, имею в виду, что будет, если оставим за Америкой те же пятнадцать. (Думаю, примерно то же самое соотношение производства и потребления существует и в отношении Западной Европы, хотя цифры не знаю.) То есть если мы хотя бы на первом этапе перераспределим эти доходы, которые не соответствуют вкладу в мировую экономику, причём не просто глупо перераспределим, но направим эти ресурсы на развитие того, что сейчас в остальном мире не развивается в силу существующего международного порядка, то можно будет решить очень большое количество проблем. По крайней мере, точно добьёмся того, что пара миллионов людей, которая умирают от голода ежегодно, останется жить. Также, например, мы, как минимум, остановим то, что СПИД выкашивает африканцев, у которых чуть ли не каждый третий им болеет. Но достаточно об этом.
— Хорошо!
— Особенным же в данном случае будут нации, народы, государства, которые вместе составляют человечество. Вопрос тут, безусловно, сложен, потому что то, каким образом произойдёт это перераспределение мирового продукта между отдельными странами, ещё требует серьёзной подготовки. Я считаю, что такие организации, как Священный союз в девятнадцатом веке, Лига наций в двадцатом и ООН во второй половине двадцатого века — это предвестники единства народов, наций, но, конечно, ещё недостаточные, хотя и единственно возможные на тот момент развития человечества. Относительная, но всё же успешность их появления, потому что какое-то время они просуществовали и приносили определённую пользу…
— ООН и до сих пор существует.
— Да, до сих пор существует… Мне трудно сказать, во что бы конкретно тут выливалась диалектика так определённых особенного и всеобщего. Ясно, что отношения тут, действительно, диалектические. Например, в ответе на предыдущий вопрос я рассматривал Россию как одного из, а, может быть, даже главного агента этого общемирового переворота.
— К всеобщему.
— Да, к всеобщему порядку. Пожалуйста: Россия — особенное, которое может помочь установить это всеобщее. Однако, разумеется, есть и обратное влияние всеобщего на особенное…
— В свою очередь, есть такое особенное, как США, которое в течение последнего промежутка времени представляет собой всеобщее уже минувшей эпохи.
— На мой взгляд, да. Это не означает, что американцы должны будут превратиться в совершенное ничтожество. Другое дело, что вряд ли они способны играть всеобщую роль и дальше. Их сопротивление, попытка сохранить status quo может двигать дальше этот процесс выявления того, что же это за всеобщее грядущей эпохи, что должны иметь конкурирующие за эту роль с США и т. д. Американское сопротивление изменению наличного положения вещей всё равно полезно; до некоторой степени опасно, но что делать? История в той или иной степени слепа и в связи с этим опасна, такова её специфика.
— Да.
— Говоря же о единичном, я бы говорил здесь о человеке. Об этом довольно-таки много говорит Маркс. Кстати сказать, не очень исследован вопрос о влиянии Фихте на Маркса. Я вижу достаточно много признаков этого влияния. Другое дело, что, чтобы высказывать тут что-то серьёзное, необходимо разбираться с фактологией жизни Маркса, находить какие-то подтверждения того, что это не просто какие-то совпадения в воззрениях, а именно влияние Фихте на формирование воззрений Маркса. Однако это должно быть так, что Фихте влиял на Маркса, потому что фактом является то, что Маркс одно время увлекался Фихте… Итак, речь идёт о том, что отдельный индивид, конечно, формируется в недрах общества. Я упомянул здесь Маркса, потому что эту сторону дела он разрабатывает довольно-таки сильно. Он говорит о том, что личность формируется в связи с тем, какое место в материальном производстве она занимает в общем разделении материального производства в обществе, в разделении труда, и в связи с тем, в какие отношения она вступает и с природой, поскольку это ведь — материальное производство, и с остальным обществом, потому что это материальное производство диктует некоторые отношения и всё такое. Ослабим здесь тезис о производстве, потому что в некоторые отношения человек вступает не только в связи с материальным производством: например, в отношения образования. Во времена Маркса, понятно, каждый индивид получал такую образовательную дорожку, какая была возможна для его сословия, его материального положения и т. д. Однако в течение последнего столетия существует общедоступное среднее образование, пока ещё достаточно доступное высшее образование, так что здесь, получается, есть некоторые отступления от того, как для своего времени это описывает Маркс, — но вызванные в значительной степени как раз самим Марксом! (Потому что если предположим, что Маркс и марксизм не влияли бы на общество в девятнадцатом-двадцатом веках, то, скорее всего, была бы лишь сословная доступность, обусловленность образования для людей.) Однако однозначно то, что индивид формируется в связи с тем, в каком он обществе живёт. Примат определяющих развитие индивида факторов здесь будет связан с тем, каково общество. Разумеется, это не означает, что индивид — лишь нечто страдательное, производное от общества.
— Я бы даже здесь уточнил, говоря, что называется, о роли личности в истории: ведь деятелями, которые преобразуют текущую эпоху к новой, в конечном итоге, будут как раз индивиды. Это будут соответствующим образом образованные люди, которые соответствующим образом будут мотивированы, будут чем-то жертвовать. Если начинать не со стороны всеобщего, а со стороны единичного, то какова будет диалектика здесь? Возможен ли герой сегодня?
— Герой, конечно, возможен!
— Быть может, это будет какой-то представитель общины? Ведь в античности герои всегда были связаны с общиной неразрывно, так что, когда в античной Греции община разрушилась, полис выродился, тогда выродились и герои и остались только карикатуры на них.
— Так было не только в античности, но всегда так было. Мы можем говорить о героическом веке древнерусского общества, отраженном в русских былинах, к примеру.
— Я, по крайней мере, знаю античность лучше всего.
— Понятно, что античность — это образцовый вариант для изучения таких феноменов. Однако время героев — достояние не исключительно античности… Впрочем, я хотел сказать, что отдельный человеческий индивид, в отличие от индивида физической, химической и даже в отличие от индивида органической природы — это не просто индивид. Точнее, перечисленные мною индивиды — тоже не просто индивиды. Однако форма выступления всеобщего и единичного в физическом, химическом, органическом и человеческом индивидах различна. Никакого отдельного человеческого индивида, потустороннего всеобщему, просто нет. Ведь мышление имеет всеобщую природу и человек, будучи существом мыслящим просто в силу своей природы, является одновременно и единичным, и всеобщим. Другое дело, в какой мере у него совпадает индивидуальность и всеобщность, — это связано с развитием его мышления. Здесь задача и философии, и истории, и специфически нашего момента — как раз обеспечить оптимальные условия развития мышления у каждого индивида.
— Конечно.
— Именно это является целью и именно поэтому таково средство, которое предлагает Фихте: имущественное равенство — оно не ради самого себя, даже не ради какой-то справедливости, которая таким образом якобы достигается. (Потому что если бы речь шла именно о справедливости, можно было бы ответить: «У нас разные вклады в общее благосостояние и, соответственно, справедливым будет как раз неравенство имущества! Если я сыграл гигантскую роль в нынешнем нашем процветании, а Вы — очень скромную, то почему у нас должно быть равное имущество?» Скорее, будет справедливым второе, неравенство имущества, чем первое). Нет, равенство имущества нужно ради обеспечения для всех людей возможности равноуспешного развития их личностно и их мышления. Это отчётливо сформулировано Марксом, но это вполне видно и у Фихте. Стало быть, целью истории является как раз то, чтобы люди, будучи единичными, стали всеобщими. Они, повторюсь, в какой-то степени всеобщими и являются в силу того, что они существа духовные, мыслящие…
— В той или иной степени в-себе [люди таковы. — А.Д.]. Нужно же, чтобы они стали таковыми в абсолютной степени для-себя.
— Да, да! Нужно максимально обеспечивать им возможности для того, чтобы это было так. Возможности для того, чтобы абсолютное было не только сущностью, но и существованием. Говоря иначе, чтобы человек был абсолютен и разумен. Такова здесь диалектика. Обеспечить развитие единичного можно только за счёт того, что изменяется всеобщее и особенное.
— Изменяются международные политические и экономические отношения и роль государств в них?
— Да, совершенно верно!
— И тогда мы создаём условия для образования индивида к всеобщему?
— Да!
— И к тому, чтобы он мог дальше сознательно регулировать эти отношения?
— Да.
О принципиальной достаточности философии Фихте для ближайшего развития свободы
— Какова действительная роль философии Фихте в осуществлении этого шага [ближайшего шага развития свободы в России — А.Д.]?
— Под «действительной» имеете в виду ту, что философия Фихте уже сыграла? Или ту, что она может играть?
— Ту, что она играет в вечности: и ту, что уже сыграла, и ту, которую предназначено сыграть.
— Гегель в начале «Энциклопедии философских наук» говорит, что форма Я — это абсолютная форма. Исходя из этого определения, фихтевская философия — часть непреходящей философии, важнейший её момент, миновать который нельзя ни в личностном развитии, ни в выводах из фихтевской философии в отношении общества, истории. Говоря совсем коротко, ее роль непреходяща. Она навсегда останется частью всемирной философии, которую необходимо будет изучать и делать из нее выводы. Философские учения хороши, в частности, тем, что, каждое из них представляет собой универсальный момент — и субъективного мышления, и объективно существующего (его законы), при том, что каждое из этих учений касается, возможно, только одной, но — универсальной стороны дела, которая присутствует всегда и во всем. Никакое последующее учение не отменяет полностью ни одно из предыдущих, которые по праву входят в историю философии.
— Да, но, с этой точки зрения, мы точно так же могли бы сказать, что и Платон играет какую-то роль на этом ближайшем переходе [к реализации фихтевского понятия свободы в России — А.Д.], и Аристотель. Желательно всё-таки сказать, каково в отношении этого шага значение именно у Фихте.
— Я уже упоминал вкратце, что есть определенное сходство в понимании свободы Лютером и Фихте. Кто-то скажет: Фихте вырос в лютеранской стране — но это не самое существенное, что можно сказать в связи с этим. Если мы возьмем, в целом, Новое время, то тó, о чем я говорил, было связано с переходом к неким новым историческим перспективам, и много было сказано негативного в отношении тех принципов, которые получились в результате Нового времени. Но дух Нового времени — необходимая ступень развития. Принципы, которые лежат в его основе необходимые, но они преходящие. Философский принцип, который Фихте выдвигает, одновременно является и завершением этого процесса, и в то же время указанием на более высокие принципы. Соответственно, что касается роли этой философии, то здесь мы имеем не просто некоторое отрицание предшествующего, но и некоторое раскрытие, в чем же состоял истинный смысл предшествующего духовного развития. В частности, согласно моему примеру, раскрытие того, что стояло за позицией Лютера в отношении свободы и что стояло за разворачивавшимися вокруг свободы спорами, когда, например, Эразм Роттердамский отстаивает точку зрения на свободу как произвол: как на способность человеческого индивида начинать некоторый род причинности, как это примерно выражает Кант. Раскрытие и того, что в этом было такого, что заставляло это утверждать, и в то же время, а что стояло за этим такого, что заставляло Мартина Лютера отрицать свободу такого рода за человеком. Ведь, повторюсь, свобода содержательна, и от сознательно исповедуемых представлений Фихте и Лютера о том, что свобода существует в момент обращения к нравственным или религиозным задачам, как раз скрывалось то, что свобода содержательна, исторически определена. Раскрытие содержательности свободы — это то, что в первую очередь, мы можем назвать философией Фихте как главный его вклад в процесс исторического развития человечества.
— Я хотел узнать, задавая этот вопрос, как именно Фихте будет задействован в этом переходе? Мы объективно вынуждены будем положить его философию в основание образования для этого перехода или как?
— В чистом виде положить в основание образования — наверное, нет. Но поскольку принципом философии Фихте является абсолютная форма, то непосредственно его размышления, которые он выводил из этой формы в отношении общественного, политического, всемирно-исторического содержания, достаточно содержательны для того, чтобы ими пользоваться. В то же время владение в достаточной мере принципом философии Фихте, на мой взгляд, позволяет делать выводы, отличные от тех, что делал сам Фихте. Не обязательно непосредственно те решения, которые он находил, должны быть положены в основу образования или общественного устройства, но то, что можно с его помощью делать, будет некоторым образом отличаться от того, что он сам усматривал. Фихте делает выводы в отношении содержания свободы, свобода не остается у него абстракцией, которая у Канта еще выглядит таковой: свобода как нравственность, как моральное требование остается у Канта абстрактным категорическим императивом. У Фихте же свобода разворачивается уже содержательно. Продолжая разворачивание этого содержания, владея его принципами, можно закладывать их в основу образования, и общественного устройства, и регулирования всемирно-политических обстоятельств и т.д.
— Уникальная роль Фихте при переходе на новую эпоху, стало быть, диктуется тем, как определена свобода исходя из его принципа, причём не только им, но и определена объективно; вместе же с тем у Фихте здесь нет никакого преимущества как у философа перед, скажем, Платоном и Аристотелем, поскольку каждый из философов как принадлежащий вечному сословию жрецов истины играет здесь объективную, незаменимую роль?
— Не совсем, конечно. Потому что если говорить о том, что результаты мышления каждого из представителей истории философии являются необходимыми для того, чтобы мыслить дальше, более определенно, конкретно и развито, то в этом смысле они равны. Но все-таки развитие в истории философии происходит. Каждое последующее учение в каком-то отношении или в целом более развито, чем предшествующее. В основе мышления Фихте лежит принцип свободы, который я характеризовал ближе через собственные формулировки Фихте. Если говорить о его специфической роли для общественно-политических, экономических, образовательных преобразований, которые нам предстоят и уже происходят, то эта специфика связана с этим принципом. Свобода у него конкретизируется: свобода не какой-то произвольный выбор, не абстрактно-нравственный выбор. Это уже конкретика содержания, которое есть содержание самой свободы.
— Соответственно, сообразно задачам, которые ставит перед нами наша эпоха, конечно, необходима и точка зрения Демокрита на истину, и точка зрения Парменида, и т. д. Однако для задач именно нашей эпохи точка зрения Фихте — наиболее адекватна из всех? Или же она менее адекватна, чем шеллинговская или гегелевская, но все-таки уже актуальнее, чем у Платона? Возможно, чтобы перейти на новый этап исторического развития, Гегеля нам будет много, а вот Фихте или, условно, Шеллинг — это что-то более адекватное?
— На мой взгляд, именно в этом отношении Фихте более плодотворен, чем Шеллинг и Гегель.
— Да? Интересно!
— Да. Что касается Шеллинга, то в своем развитии он последовательно сменил 4 позиции. Первая из них здесь может быть опущена, так как он тогда в целом следовал Фихте.
— Речь идёт о его ранних работах?
— Да, разница там, конечно, есть, но ничего значительного для нашего вопроса там не видно. Если говорить о [1] натурфилософском периоде, а дальше о [2] философии тождества и [3] философии Откровения, то, конечно, мы здесь можем найти для себя нечто, чего мы не найдем у Фихте. Нечто в положительном смысле: не просто отличие от Фихте, а некоторый прирост понимания по отношению к Фихте. Принципиального превосходства концепции Шеллинга в отношении истории над фихтевской нет. Потому это прирост частного порядка. В то же время, что касается последнего этапа, где Шеллинг наиболее внимательно исследует историю, так называемой (им самим) позитивной философии и двух её основных частей: философии мифологии и философии Откровения, то они, конечно, дают больше всего прироста понимания по отношения к истории, если сравнивать с Фихте, но принципиального превосходства опять же нет.
— Это опять же детали?
— В общем и целом, да.
— Однако разве последний период развития Шеллинга не является его деградацией, если оценивать с точки зрения философии? Может ли он быть сопоставим с не деградировавшей никогда точкой зрения Фихте?
— Это не просто деградация какая-то! В философии Шеллинга в целом, вне зависимости от этапа ее существования, есть определённые ограничения, которые у него возникают в связи с проблемами философского порядка, из-за которых его мысль и переходила от одного этапа к другому. Если мы применим здесь общую закономерность — кстати сказать, известную отчасти благодаря ему, отчасти Платону с Аристотелем — то нам станет яснее, что тут у Шеллинга происходит. (Впрочем, эта закономерность неплохо освещена ещё и у Николая Кузанского). Именно, всякое движение есть устремление существующего к абсолютной цели, в связи с тем, какой это род существования, в специфическом виде к абсолютной цели по тому, как она может быть реализована этим видом существования. Это иллюстрировано в «Физике» Аристотеля, когда планеты или какие-то другие небесные тела двигаются по своим орбитам, поскольку…
— Они реализуют эту цель.
— Да! Цель же их — находиться во всех точках одновременно, чего они сделать не могут. Поэтому они последовательно меняют своё местоположение, чтобы последовательно занять все эти точки. Нечто подобное происходит и в философском развитии Шеллинга, когда изменяется его точка зрения. Философская проблема заключается в том, что у него разорвано непосредственное и опосредованное, всеобщее, особенное и единичное не соединены до конца. Поэтому ни в одной из его философских позиций у него не получается понять и показать, каким образом всеобщее переходит в особенное и в единичное. Декларируется, что всеобщее, абсолютное есть причина и, оставаясь самим собой, в то же время становится особенным и единичным, но нигде корректным образом он показать развитие всеобщего до особенного и единичного не смог. Соответственно, в пределах возможности своей точки зрения он последовательно занимает три оригинальных позиции: [1] натурфилософскую, [2] философии тождества и [3] позитивной философии. Позитивной философией он отрицает возможность абсолютного познания. Абсолютное в позитивной философии Шеллинга открывает себя в особенном и только в особенном и единичном оно познаваемо. Потому философия Откровения, как и философия мифологии, — это познание чего-то позитивного, данного, уже открытого всеобщим, особенного и единичного. Все исторические явления, которые Шеллинг объясняет, есть явления всеобщего, этого он не отрицает. В этом смысле это — здравый посыл для того, чтобы исторические явления изучать и трактовать. Однако ограничение заключается в том, что вершиной этого развития является не познание абсолютного, а его религиозное открытие. Вершиной этого развития, по Шеллингу, получается явление Христа, а потом развитие христианской церкви. Это не позволяет ему многие вещи оценить положительно, хотя и в этих пределах он многое разрабатывает очень продуктивно.
— И Гегель здесь тоже никаких преимуществ не вносит в понимании свободы для следующей эпохи?
— Да, в общем, так. Сам Гегель упрекает Фихте в том, что Фихте останавливается на религии, а это неверно. Такого у Фихте нет. Почему так Гегель его оценивал, это долгий разговор. Важно также сказать, что в отношении объективного, того, что Гегель называет «реальной философией» и частью чего является философия духа, а соответственно, и все частные исследования, которые у него в этой области есть: во-первых, философия права, во-вторых, ряд лекций по эстетике, по философии религии, по философии истории — принципиального шага вперёд со стороны Гегеля я не вижу.
— Даже несмотря на гегелевскую «Философию права» и на то, что, в отличие от Фихте, сама сфера объективного Гегелем признаётся?
— Я сказал, что не вижу принципиального прогресса. Я однозначно признаю огромные достоинства того, как Гегель это разрабатывает, и в этом он Фихте превосходит. Что же касается принципиального превосходства, то я его здесь не наблюдаю.
— Получается, что из всей истории философии, если Шеллинг и Гегель принципиально Фихте не превосходят именно в отношении объективного духа — а если и превосходят, то в деталях, — бывший до Фихте Кант понимает свободу ещё формально, так что во всей истории философии никого лучше Фихте в понимании проблемы свободы нет, а те, кто есть, они наравне с ним, но не выше, а есть и те, кто ниже. Поэтому на ближайшем шаге исторического развития человечества Фихте будет наряду с лучшими, но никак не будет лучше всех здесь задействован. По Вашим словам, получается, что он некоторым образом даже лучше всех для этой задачи осуществления свободы…
— Когда я говорил о роли Фихте в ближайшей реализации свободы, то отметил, что мы не обязаны фихтевские решения принимать в качестве окончательных. Я сказал, что понимание им свободы позволило ему развить понимание этих особенных сфер объективного существования. Если мы это понимание разовьем, то сможем развить понимание этих сфер даже лучше, чем сам Фихте сделал это. В этом плане можно говорить о превосходстве Гегеля, но, на мой взгляд, он в этих сферах принципиально не превосходит Фихте, а превосходит в разработке деталей. Это связано с тем, что общий принцип философии Гегеля более конкретен, нежели принцип Фихте, и поэтому, хотя Фихте даёт совершенно состоятельное понимание объективного духа, более развитый философский принцип всё-таки позволяет Гегелю развить определённые сферы гораздо более подробно, а, например, Марксу — развивать ещё подробнее понимание более частных сфер. Для того, чтобы с пониманием этих сфер иметь возможность подготавливать на основе этого понимания практические действия, Фихте и Гегель первостепенны.
— Таким образом, ситуация обстоит не так, что мы задействуем только Фихте, а от всех остальных отречемся? Здесь они идут рядом?
— Да, безусловно.
— Спасибо за интервью, Антон Александрович!
— Вам спасибо за Ваши вопросы!