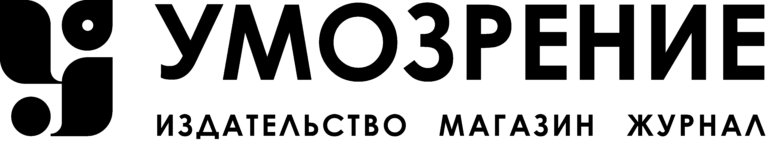О науке и научном сообществе в настоящем, прошлом и будущем

Публикуем полный текст интервью с Андреем Николаевичем Муравьёвым, которое взял у него 25 июня 2018 года наш коллега Артём Дудин. В кратком виде оно было опубликовано 3 июля 2018 года в газете «Троицкий вариант — Наука».
О различных формах и единой сущности науки
 — Андрей Николаевич, три года назад в серии «Слово о сущем», издающейся С.-Петербургским отделением издательства «Наука», появилась на свет Ваша монография «Философия и опыт: Очерки истории философии и культуры». В ней Вы пишете, что двадцать пять лет исследовали тему, вынесенную в заглавие книги. Судя по содержанию монографии, за это время Вы изучили всю историю классической философии от Фалеса и Парменида до Шеллинга и Гегеля включительно. Именно как с представителем точки зрения классической философии я хотел бы говорить с Вами сегодня. Мой первый вопрос: с точки зрения классической философии, что такое наука?
— Андрей Николаевич, три года назад в серии «Слово о сущем», издающейся С.-Петербургским отделением издательства «Наука», появилась на свет Ваша монография «Философия и опыт: Очерки истории философии и культуры». В ней Вы пишете, что двадцать пять лет исследовали тему, вынесенную в заглавие книги. Судя по содержанию монографии, за это время Вы изучили всю историю классической философии от Фалеса и Парменида до Шеллинга и Гегеля включительно. Именно как с представителем точки зрения классической философии я хотел бы говорить с Вами сегодня. Мой первый вопрос: с точки зрения классической философии, что такое наука?
— Это чрезвычайно серьёзный вопрос и, в процессе нашей беседы, надеюсь, выяснится, почему он столь серьёзен. Если отвечать на него кратко, то, с точки зрения классической философии, сейчас существуют два различных рода наук. Один из них есть тот, что преимущественно называется сегодня наукой, а именно, эмпирическая наука в различных её отраслях. Прежде всего, это эмпирические науки о природе, как физика, химия и биология, но также и эмпирические науки о духе, т. е. история, социология, психология и т. п. Этот род науки несёт на себе печать уже очень долго идущего развития опыта с домифологических времён вплоть до XV-XVI веков, когда благодаря развитию христианской религии, преемницы античной философии, возродилось заглохшее в первые века христианства, когда от античности открещивались, внимание к эмпирии природы и духа, так как мир как произведение бога стал представляться окрепшему в школе схоластики рассудку заслуживающим внимания и изучаться Коперником, Кеплером, Галилеем, Ньютоном и другими учёными. Эти науки до сих пор существуют в этой своей первоначальной эмпирической форме, составляя одну, самую обширную и всем известную составляющую современной науки. Вторая же её составляющая, менее известная и многими даже не признаваемая наукой, есть философская составляющая. История этой составляющей началась в мифологические времена классической древности, когда мифология заменяла грекам естествознание и, так сказать, духознание, а закончилась в начале XIX века, когда классическая немецкая философия в лице Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля завершила историческое развитие философии в науку. Философская наука есть по существу логическая наука, какой она в результате всего своего более чем двадцатипятивекового исторического развития в виде системы выступила у Гегеля (прежде всего, в его «Науке логики», затем — в «Энциклопедии философских наук»). Она только кажется многим каким-то историческим феноменом, якобы оставленным в прошлом эмпирической наукой, как это провозгласил Огюст Конт в середине XIX века, а за ним подхватили и до нашего времени так считают и других учат считать другие позитивисты — представители так называемой «аналитической философии», господствующей в современных университетах. На деле же философская наука продолжает быть тем, чем она всегда была в ходе своего исторического развития, т. е. основой, фундаментом действительно современного научного знания, однако, во-первых, не будучи признаваемой многими логической наукой, и, во-вторых, не будучи признанной очень многими этим фундаментом. По этим двум пунктам непризнания её я и назвал Ваш вопрос чрезвычайно серьёзным, причём чрезвычайно серьёзным и важным не для философской науки, с которой всё в порядке, а для других наук. Поэтому я и говорю не просто о современном научном знании, каким мы привыкли его видеть, начиная с XV-XVI веков и кончая началом XXI века, т. е. не об эмпирическом научном знании, а о действительно современном научном знании, которое есть пока только в прошлом (в гегелевской системе и во всех других классических философских учениях, где в виде натурфилософии и философии духа уже существует строго теоретическая, т. е. уже не эмпирическая, форма наук о природе и духе), но в будущем, без сомнения, выйдет за пределы философии в другие науки. Вот эта сложная философская наука, где логика совмещена с философией природы и духа, и составляет второй род и вторую — основную, или фундаментальную — часть современной научности. Её, правда, многим ещё только предстоит, как я сказал, признать таковой. Это произойдёт тогда, когда они овладеют ею (благодаря освоению специалистами, получающими образование на нефилософских факультетах, разумного содержания истории философии) и на этой основе сознательно двинут вперёд развитие эмпирических наук, придав содержанию наук о природе и духе строгую теоретическую форму. Разумеется, не математическую форму, какая ныне обычно считается строгой научной формой, но строгую теоретическую форму в том смысле, в каком ею обладала ранее только философия, которая, кстати, не случайно является самой древней из всех наук, включая и математику.
— Однако как понимать эту теоретическую форму? Кажется, что теоретическая наука уже существует и по названию и по существу. Мне лично доводилось слышать от одного уважаемого математика, что у нас в стране есть только одна настоящая школа мышления, и это — математическая школа. Надо полагать, что такого рода уважаемые люди математику признают теоретической наукой. Чем же они, эти современные математические и математизированные науки, включая сюда физику, с классической философской точки зрения ещё не теоретические?
— То, что сегодня называется, скажем, «теоретической физикой», на самом деле есть необходимый элемент эмпирической физики, без которого она как эмпирическая наука существовать не может, отчего эта «теоретическая» составляющая эмпирической физики имеет именно математическую форму, а не философскую. Как известно, философия есть самая древняя из наук. Математика как наука возникла позже философии и на основании философии в трудах Пифагора. Позже, в XV-XVI веках на философско-религиозной, или антично-христианской основе возникла физика как эмпирическая наука — сначала как небесная механика, т. е. как астрономия, а затем и как земная механика. Ещё позже, на рубеже XIX-XX веков на основании философии возникли социология и психология, а конце XX века от философии отпочковались культурология и политология. Философия справедливо считается матерью всех наук именно потому, что серьёзный теоретический прогресс в эмпирическом естествознании и духознании всякий раз был обусловлен философскими предпосылками. Без них он всегда был невозможен. В этом смысле основа развития всех эмпирических наук всегда была строго теоретической, т. е. философской. Соответственно, возникновение и развитие математики имеет ту же теоретическую, то бишь философскую основу. Но сегодня историческое развитие философии от Фалеса и Пифагора до Гегеля включительно делает возможной, а потребность дальнейшего развития самих эмпирических наук делает необходимой теоретическую форму этих наук в строгом философском смысле. Сознание этого только сравнительно недавно забрезжило в умах действительно выдающихся современных учёных — таких, например, как А. Эйнштейн, который справедливо жаловался на математические трудности создания единой теории поля, В. Гейзенберг, признавший Платона инициатором современной квантовой физики, Р. Дж. Коллингвуд, осознавший необходимость познакомить историков с философской идеей истории, Н. Н. Моисеев — математик, вынужденный по-настоящему заняться историей философии нового времени и философскими вопросами естествознания и обществознания, и А. А. Любищев — биолог, который главным трудом своей жизни считал исследование того, на основе каких философских представлений достигнуты физикой как наукой о неорганическом мире их поразительные успехи и какие уроки может извлечь биология из истории философских направлений в физике. Указанная потребность должна поменять форму развития эмпирических наук, оставив в них эмпирической (и, там, где и насколько это надо, математической) только форму подтверждения и изложения научных открытий. Эти науки должны стать сознательным теоретическим выражением истины, реально существующей в виде природы и в духа. Когда они станут её сознательным выражением, тогда они и обретут настоящую теоретическую форму. Из теоретической составляющей она превратится в теоретическое целое этих наук. Единое теоретическое содержание этих наук будет существовать в этой единой форме, а эмпирическим останется только его подтверждение и изложение сообразно различным, свойственным этим наукам способам его подтверждения и изложения.
— Правильно ли я понимаю: теоретическая форма есть то, что классическая философия называет идеей?
— То, что классическая философия называет идеей, или истиной как таковой, составляет содержание этой теоретической формы. Когда современные науки о природе станут сознательным теоретическим выражением истины, тогда, скажем, физика будет сама теоретически раскрывать физическую форму идеи природы, химия — её химическую форму, биология — органическую форму этой единой идеи природы, этого единого содержания всех естественных наук. Тогда эти науки станут заниматься уже не изучением отдельных явлений природы и не установлением особенных законов этих явлений, как они сегодня делают в качестве эмпирических наук. Как теоретические они займутся выявлением истинного, или идейного единства своего предмета и перестанут раздирать единую природу на якобы различные «природы» (физическую, химическую и органическую), а потом мучаться над проблемой соединения этих искусственно созданных ими «природ», множа так называемые «междисциплинарные исследования».
— Всё-таки я бы ещё уточнил. По-гречески θεωρέω [тхеорéо] означает «созерцаю». Насколько я понимаю, этому глаголу противостоит, если брать на аттическом диалекте, глагол πράττω [прáтто] — «действую». Наука как таковая всегда теоретична, даже если она имеет своим предметом практическое, как, скажем, история, которая хотя и изучает поступки людей, но её в них интересует не то, как делать что-то завтра или послезавтра, но то, каков закон сделанного. (По крайней мере, с философской точки зрения, история именно такова, если судить по философии истории у Фихте или у Гегеля.) Созерцать же — значит, если следовать определению Аристотеля, иметь дело с предметом, который не может не быть и который существует сам по себе, тогда как поступки как содержание практики могут быть, а могут и не быть и имеют своё начало в нас. Вы же противопоставляете не практическое и теоретическое, но эмпирическое и теоретическое. Тогда возникает вопрос: каким же образом в эмпирическом отсутствует элемент созерцательного, и каким образом он должен присутствовать в истинно теоретической науке?
— Это тоже весьма серьёзный вопрос. Насколько я знаю, сегодня даже сами учёные, представляющие эмпирические науки, довольно часто говорят о так называемой «технонауке» как о том, чем они заняты. Современные эмпирические науки именно потому, что насущная потребность в их теоретической форме пока не удовлетворяется, вырождаются в технические науки, если не просто в технику, т. е. в некоторый способ действия с природными феноменами, заставляющий их производить определённые эффекты, которые кажутся учёным и неучёным, оплачивающим такие исследования, нужными и полезными. Последние великие теоретические открытия в эмпирической науке сделаны довольно давно на философской основе и сегодня они эксплуатируются исключительно техническим способом, а новых великих открытий не происходит. При этом то, что сделано в физической теории Ньютоном на основе эмпиризма Бэкона и продолжено Эйнштейном на основе метафизики Спинозы, технически сегодня, по моему представлению, уже почти исчерпано. Куда же дальше идти этой так называемой «технонауке»? Дальше, ясное дело, — тупик, выход из которого может быть только строго-теоретическим в том смысле, какой я, надеюсь, разъяснил. То, что уже более ста лет называется «кризисом современной физики и естествознания в целом», — это ныне уже вполне реализовавшаяся ситуация, которую наиболее проницательные учёные сто лет назад осознали наперёд. Одно дело — наука, технически достигающая различные, в том числе крайне опасные и вредные, практические результаты. Такова эмпирическая наука о природе в настоящее время. Другое же дело — наука, теоретически постигающая свой предмет, что продвигает теоретическое познание её предмета к его идейному единству и, надо думать, тем самым постепенно исключит все опасные и вредные технические применения современных научных знаний, которые ныне даже не осознаются как практически-опасные, а, напротив, кажутся весьма полезными, как так называемая «генная инженерия». Таково естествознание будущего. То, что представители современного естествознания выражают как необходимость создания какой-то сверхобобщающей теории, чуть ли не «единой теории всего», на деле выражает насущную потребность в смене эмпирической формы наук о природе и духе на строгую теоретическую форму этих наук.
— То есть «быть созерцаемым», или «быть теоретическим» — в этом смысле, по-Вашему, означает, прежде всего, «быть единым»?
— Да.
— Эмпирическая же сторона науки имеет дело не с тем, что есть само по себе…
— Единое.
— Да, она имеет дело не с единым… Но с чем же тогда она имеет дело?
— Она имеет дело с многообразными явлениями этого единого в природе и духе, а само единое в природе и духе оставляет пока, как и двести лет назад, познавать философии потому, во-первых, что полагает, будто его нет, ибо в опыте оно не выступает как единое, а, во-вторых, не знает как взяться за него и каким способом следует его познавать.
— Однако она, тем не менее, познаёт законы этих явлений…
— Она имеет дело со многим этого единого и рассудочно-математически сокращает это бесконечное множество до какого-то конечного, но потенциально идущего в бесконечность множества особенных законов.
— Как же существуют эти законы? Они ведь не существуют как законы, которые даёт чисто рассудок в нашем духе, согласно Канту?
— Они существуют именно так!
— То есть это нечто, имеющее чисто духовную реальность?
— Не чисто духовную, а природно-духовную. Кант относительно эмпирического естествознания совершенно прав, выдвигая в «Критике чистого разума» положение, что рассудок даёт законы природе.
— Но тогда истинность этих законов оправдывается только тем, что сам дух включён в природу как более высокая её форма…
— Естественно, что дух природе не посторонний. Он, конечно, не есть высшая форма природы, как полагают материалисты, но дух по необходимости связан с природой и возникает из неё.
— …и в этом смысле он в себе концентрированно, как микрокосм, заключает всю природу и таким образом может её познавать?
— Разумеется, отчего законы природы и носят имя «законов Ньютона», «законов Эйнштейна» и т. д. Тем самым указывается, кто именно из духовных существ, т. е. из людей, открыл и сформулировал эти законы. Это, конечно, законы природы, но именно как математически сформулированные законы они существуют только для духа и в духе. В самой же природе они только реализуются в определённых взаимосвязях и взаимопревращениях природных явлений. «Идеальный газ», «идеально твёрдое тело» недаром именно так называются в эмпирической науке, ибо такие газы и такие тела реально в природе не существуют. Кто-то из учёных хорошо сказал: «Законы природы не написаны на небе». В противном случае науки о природе и учёные, открывающие эти законы, были бы не нужны.
— При этом зачастую законы природы реализуются в силу искусственных экспериментов, когда, например, создаются искусственные химические элементы?
— Но как же иначе? Эти эксперименты совершенно очевидно доказывают: то, что в природе самой по себе реально не существует, в результате нашего технического вмешательства в неё начинает реально существовать на какие-то доли мгновений или, к сожалению, надолго, как эти искусственные генетически-модифицированные организмы, которые только кажутся полезными, но на деле вреднее любых природных мутантов. Недаром те, кто имеют средства, стараются ГМО не употреблять. В уникальных экспериментах Галилея (которые до сих пор не могут повторить, так умело он изготовлял свои приборы) фактически происходило то же самое.
— То есть я Вас правильно понял: эмпирическая наука не теоретична именно потому, что познаваемые ею особенные законы реальны только в духе исследователя, а то, что было бы теоретической наукой, познавало бы природу так, как она есть сама в себе, а не в духе?
— Да, именно сама в себе. Теоретические науки о природе будут познавать то, каким образом эта единая сущность природы, существуя в самой природе только в себе, а на поверхности её явлений выступая только в виде их множества, раскрывается духом, поскольку лишь он существует для себя, отчего, стало быть, для духа и существует природа как единое идейное целое.
— Но этот дух уже должен был бы быть несколько иным, нежели тот, который имеет дело с природой в эмпирической науке…
— Конечно. Он будет уже не эмпирически действующим и технически калькулирующим, а теоретически постигающим духом — духом, мыслящим разумно, а не только рассудочно. В опыте, в эмпирии исследователь является внешним своему предмету, а предмет — внешним его исследователю. Эта эмпирическая установка порождает массу вопросов: «Какое право мы имеем что-то приписывать природе?», «Что это за удивительная вещь, что природа как будто бы специально подстроена под наше познание?» и т. п. Все такого рода вопросы намекают на то, что опыт есть некоторое единство природы и духа, а не только их выпирающее и затеняющее их единство различие. Выявить это единство природы и духа значит подойти к природе не просто как к материи, которую мы можем насиловать как нам угодно и тем самым подрывать наше собственное физическое существование как духовных существ, по необходимости связанных с природой. Это значит понять, что, вообще говоря, природа, с одной стороны, есть идейное единство природы и духа, а дух, с другой стороны, есть то же самое идейное единство природы и духа. При такой разумной предпосылке и таком разумном подходе это будет уже совсем другое, строго-теоретическое научное исследование как природы, так и духа. Повторю, что примеры, или образцы такого конкретного, а не абстрактного (познавательного, или теоретического, а не потребительского) отношения к природе и духу классическая философская мысль в своей натурфилософии и философии духа уже дала.
— Даже Гейзенберг пишет, что, по-видимому, реально то, что Платон называл идеями, а не материя в смысле каких-то кирпичиков-атомов…
Такого рода явления, как появление квантовой физики, в возникновении которой активнейшим образом участвовал Вернер Гейзенберг, показывают, что на гребне по-настоящему современной науки о природе совершается единство философского и эмпирического научного знания — единство философской основы, фундамента всего научного знания и производных от этой основы, которые и есть эмпирические науки.
О сущности духа
— Андрей Николаевич, в нашей беседе уже не раз прозвучало слово, которое для многих людей покажется удивительным: дух. Сегодня принято думать, что мышление тождественно мозгу, хотя мышление, по своему понятию, имеет дело со всеобщим, а мозг у каждого свой. Что же такое дух?
— Проще всего определить дух как то, что познаёт. Дух познаёт, прежде всего, природу, а затем с необходимостью и себя самого. Он познаёт как свои собственные предпосылки в природе, так и в себе самом, или уже вне природы, за её пределами. Дух — это то, что, в сущности, есть для себя самого и, самое главное, дух знает о том, что он есть для самого себя, поскольку, если он этого ещё не знает, то он есть только душа, т. е. лишь явление духа. То же, что есть для иного, или для духа, а само себя не знает и знать не может, есть в строгом смысле природа. В том числе и природа в виде человеческого мозга. Мозг же (как и компьютер, искусственно созданный человеческим духом, знающим законы явлений природы и умеющим технически их применять) не знает и не может знать самого себя, отчего он, как и компьютер, в отличие от духа, не мыслит и мыслить не может. Мозг отнюдь не есть для себя, он просто есть, или есть в себе как природный орган организма человека и, разумеется, он должен быть здоровым мозгом, чтобы быть природным носителем духа и духовной деятельности.
— То есть мозг человека всё же является природным носителем этой деятельности?
— Без сомнения. Причём, ясное дело, что он является таким необходимым природным органом свободной познавательной деятельности духа не сам по себе, а в единстве со всеми другими органами природного организма человека, отчего от состояния его организма характер протекания этой познавательной деятельности зависит напрямую. Болен или не выспался учёный, — он плохо соображает. Какая уж тут наука? Выздоровел, отдохнул как следует, как следует напитался и забыл думать о пище или о чём-нибудь ином, не имеющим отношения к науке, и — вперёд, в незнаемое! При этих необходимых условиях хорошо, бодро и энергично идёт познавательная работа духа. Так что с мозгом никаких проблем нет, кроме здоровья его и организма в целом… Итак, дух — это единственное, что есть для себя самого, а вот то, что есть для него, есть либо он сам, либо природа.
— Стало быть, так называемая «mind-body problem», проблема отношения души и тела возникла от недопонимания?
— Нет. Это, в некотором смысле, очень важная форма продвижения к постижению, к пониманию того, что такое дух. Понимание духа как души, связанной с телом, осуществлялось в античной философии, как Вы прекрасно знаете. После этого и христианством, и, соответственно, в возникшей благодаря античной философии и христианству новой, эмпирической наукой эта проблематика наследовалась. Но это ещё не выяснение того, что такое дух по существу, которое началось только у Декарта, противопоставившего дух как мыслящую вещь природным вещам как протяжённым. Отсюда и родилась названная проблема. Затем это выяснение сделало крупные шаги у Лейбница, Канта и Фихте, а в целую систематическую философию природы и духа оно было развернуто Гегелем, который решил эту проблему в своей философской антропологии.
— Да, но я имел в виду, что этот искусственный дуализм между умом и телом, согласно которому есть якобы две параллельные реальности, в этом отношении неразумен. Ведь, по Вашим словам, выходит, что такого дуализма нет, раз уж мозг есть природный орган духа.
— Конечно, нет, так как природа и дух поистине едины. Это только для рассудка они противоположны, в том числе и для рассудка Декарта, видевшего, однако, их единство в боге, которое углубил Мальбранш. Они есть, стало быть, противоположности единого. Если таким способом подойти к этому, то эта односторонняя противоположность, выдаваемая за суть дела [теми, кто видит в отношении ума и тела неразрешимую проблему. — А. Д.], понимается как единство противоположностей (говоря на языке Гегеля, единство в себе и для себя бытия).
Об истории философии
— В своей монографии Вы различаете, с одной стороны, эмпирические науки и историю философии, а с другой — философию как логический метод познания истины. В чём же здесь состоит различие при том, что история философии, которую Вы тоже считаете наукой, почему-то находится в одной компании с эмпирическими науками?
— Было бы странно и нелепо, если бы история философии как реальный исторический процесс развития философии равно как научная и академическая дисциплина была сборником философских анекдотов и происшествий. На деле все вопросы о научности эмпирических наук, истории философии и самой философии — это всё вопросы о различных формах научности, как я уже сказал. Одно дело — теоретическая форма научности философии в ходе её истории. Другое — эмпирическая форма научности наук о природе и духе, как они существуют с XVI века и до сих пор. Третье — логическая форма научности философии, которая возникает в ходе её истории (куда с XVI века включаются эмпирические науки) и именно поэтому результирует историю философии и эмпирических наук в классической немецкой философии вообще и в гегелевской системе в особенности. Таким образом, мы сейчас уже имеем три определённые формы научности, причём никаких других форм научности нет и быть не может. Всё дело теперь только в том, чтобы определённым образом соотнести их для того, чтобы имел место и время не кризис эмпирических наук и не погружение их во всякого рода ненаучность и антинаучность, а было обеспечено их дальнейшее развитие. Вот почему я начал нашу беседу с различения двух родов современной науки с различения многих эмпирических наук и одной-единственной науки — философии.
— Куда же здесь относится история философии?
— История философии необходимым образом относится и к истории философии, и к истории эмпирических наук, которых не было бы без философии и её истории. Дело в том, что эмпирические науки только по видимости имеют свою собственную обособленную историю: историю математики, историю физики, историю химии и т. д., как хотели бы представить дело позитивисты В действительности же эти их истории если не едины с историей философии как науки, то неразрывно связаны с нею. В этом смысле истории всех наук связаны друг с другом через историю философии, потому что философия составляет единый фундамент, или основание научности как таковой, так или иначе проявляющееся в обоснованном, а обоснованным здесь являются, с одной стороны, эмпирические науки, а с другой — сама философия как логическая наука.
— То есть история философии, будучи некоторым образом особенной наукой, — по крайней мере, по материалу обособленной от эмпирических наук или от философии в её логическом способе, — тем не менее, не является особенной наукой…
— Нет, она, если брать её в качестве научной и академической дисциплины, остаётся особенной наукой об историческом развитии именно философии. Но при этом эта наука, так или иначе, включает в себя и историю мировой культуры — по крайней мере, в тот её более чем двадцатипятивековой период, в какой существует сама философия. Элементом же истории мировой культуры и, стало быть, истории философии с какого-то времени становится история эмпирических наук. Но в историю мировой культуры входит и история религии, без которой историю философии и эмпирических наук тоже не понять и не объяснить. Входит и история искусства, без которой, в некотором смысле, тоже нет истории всех наук, и т. д. Поэтому история философии является такой особенной наукой, которая раскрывает всеобщее основание исторического развития всех наук.
— Да, но, вместе с тем, она, говоря философским языком, заключает в себе, но не для себя содержание и логической философии?
— История философии как реальный процесс исторического развития философии заключает в себе и содержание логической философии, и содержание эмпирического знания, а как наука и академическая дисциплина раскрывает это их содержание.
— То есть история философии есть особенная наука и не есть особенная наука, поскольку она является противоречивым единством, «мостом» между эмпирическими науками и логической философией?
— Нет-нет, «мостом» она пока не является. «Мостом» она может стать при том условии, если как философская наука и академическая дисциплина будет разумным образом преподаваться всем специалистам в эмпирических науках на этапе их высшего образования. Пока же она как реальный исторический процесс развития философии остаётся лишь основанием развития всех наук, от представителей эмпирических наук пока скрытым, а как наука и академическая дисциплина — особенной философской наукой об историческом развитии этого всеобщего основания.
— Тогда я не понимаю: в своей монографии Вы указываете, что исторически есть пять способов духа: непосредственный опыт, искусство, религия, эмпирические науки с историей философии и, наконец, логическая философия. Выходит, что, хотя история философии имеет отношение и к логической философии, и к эмпирической науке, — причём к одной не более, чем к другой, — но по своему способу духа она оказывается лишь на четвёртой ступени, на пятую не заходя. Выходит, что она ближе к эмпирическим наукам, составляет единство с ними, а не с логической философией?
— Нет, не выходит, так как тогда история философии как реальный исторический процесс развития философии не была бы единым основанием всех наук, в том числе и логической философии. История философии составляет единое основание для развития опыта и философии, — после того, конечно, как философия появилась, ибо, ясное дело, что то, в каком отношении с опытом находилась философия виртуально, до своего реального появления, есть более сложный вопрос. После того, как история философии началась, она составляет единое основание развития философии и опыта именно потому, что опыт и философия исторически взаимодействуют. При этом взаимодействуют они не только исторически в том смысле, что взаимодействовали лишь в прошлом, а сейчас якобы не взаимодействуют и поэтому в будущем не будут взаимодействовать. Это их историческое и одновременно логическое взаимодействие необходимо как для развития опыта, так и для развития философии, отчего оно, раз начавшись, если уж оно когда-то началось, прекратиться не может. Если же различить историю философии на реальный исторический процесс развития философии, с одной стороны, и на философскую науку и академическую дисциплину — с другой, то все способы духа, мне думается, встанут на свои места.
О сущности научного сообщества
— Как, с точки зрения классической философии, можно определить сущность научного сообщества?
— Поскольку мы выявили единое основание развития всех наук, постольку мы имеем возможность понять научное сообщество в целом как персонификацию (т. е. как представление в лицах) прошлого, настоящего и будущего состояния всех наук, которые именно потому, что в своей основе образуют единство, персонифицируются не в лице отдельных учёных или научных школ или лишь в одном роде наук, а только в целом научном сообществе.
— …которое, казалось бы, по видимости состоит из суммы учёных-индивидов…
— Да, которое только по видимости есть сумма индивидов и потому лишь кажется такой суммой.
— А как же конкретно оно существует в действительности как единство?
— В действительности же все вместе учёные, знают они о том или нет, насколько могут, содействуют развитию всех форм научности, наличных в прошлом, настоящем и, стало быть, в будущем.
— Получается, что научное сообщество как единство научного знания не существует в этих учёных для себя? То есть, скажем, биолог вовсе не обязательно знает, что, занимаясь своим специальным исследованием, он содействует этому всеобщему развитию науки, так? Но он объективно содействует ему, знает он о том или нет, а знать об этом может учёный только одной специальности — философ?
— Нет, не получается. В том-то всё и дело, что поскольку философия и опыт взаимодействуют и именно в этом взаимодействии происходит развитие всех наук, именно поэтому можно сказать, что насколько глубоко продвинулся любой специалист, а не только философ, в своей науке, настолько он ближе к этому единому основанию всех наук. Тем больше он с необходимостью начинает интересоваться философией, и он начинает ею интересоваться именно потому, что этого требует от него его научная специальность, какая бы она не была.
— И чем больше он интересуется философией, тем больше он сознаёт, что он — член единого научного сообщества?
— Совершенно верно! Чем крупнее учёный (я имею в виду абсолютные величины этой крупности — не тех, кого лишь сегодня называют «крупными учёными», а тех, что по-настоящему, т. е. навсегда, крупны, как, например, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг), тем более он сознаёт своё единство со всеми другими своими коллегами.
— Или Вернадский, например.
— Да, В. И. Вернадский потому для нас особенно важен как пример, что его «Философские мысли натуралиста», свидетельствующие, что этот учёный дозрел до философского основания своей специальности, появились на нашей почве! Точно также А. А. Любищев — выдающийся биолог, который больше чем полжизни занимался философскими вопросами именно потому, что он рано понял, что этого требует его специальность как биолога. У всех по-настоящему крупных учёных мы так или иначе находим признание философии как основы развития своей дисциплины. В. Гейзенберг вспоминает, что однажды в его группу на научный семинар пожаловали неопозитивисты и попытались объяснить специалистам в квантовой физике, как те познают и в чём основание их научной специальности. Завершил он это своё воспоминание словами: «Мы их, конечно, терпеливо выслушали, но больше не приглашали». Именно в действительно крупных учёных единство научного сообщества, куда, ясное дело, включены и великие философы, начинает существовать для себя. Великие учёные и великие философы непосредственно находят общий язык, без посредства позитивистов, которые этим для себя сущим научным сообществом не принимаются.
— Значит, научное сообщество — это не сумма людей, у которых есть, скажем, учёная степень…
— И различные интересы…
— …а в трудовой книжке записано, что они работают в таком-то академическом институте или в высшей школе. Научное сообщество есть сообщество тех людей, которые дозрели до понимания науки как чего-то единого?
— Верно, ибо только они его образуют как действительно единое целое, а не как мозаику, составленную из отдельных частей.
— В этом смысле научное сообщество не существует в этом вот месте, скажем, в Москве, в тех помещениях, где сидят люди и занимаются своими исследованиями?
— Нет, в себе оно существует, разумеется, и в Москве, и в Новосибирске, и в других научных центрах (например, в помещениях, принадлежащих Массачусетскому технологическому институту), но для себя оно существует только вот в этих абсолютных величинах науки.
— То есть вновь одно дело, когда оно существует в себе, а другое — для себя?
— Конечно! Заметьте: именно потому, что по-настоящему крупные учёные есть персонификации единства науки, вокруг них и формируются настоящие научные школы, а не просто секты приверженцев. Они не просто персонификации своих специальностей, что как раз есть уже не абсолютная, а относительная научная величина.
— Если у нас есть два основных рода научности (эмпирическая наука и логическая философия), то как понимать единое научное сообщество?
— Оно, во-первых, едино по своей философской основе. Во-вторых, оно едино по процессу развития всех наук, в котором философия, явно или неявно, принимает активное участие. В-третьих, оно едино ещё и по своей перспективе, когда форма мнимой взаимной независимости эмпирического и философского знания будет осознана, и, соответственно, характер специального высшего образования всех будущих учёных, в том числе и философов, будет преобразован.
— Как же тогда истолковать современное состояние научного сообщества в целом? Да, по основе, процессу развития и перспективе своей оно едино, а в реальности?
— В реальности современная эмпирическая наука в целом, по признанию выдающихся учёных, её представляющих, находится более чем в вековом кризисе. Ещё раз подчеркну: при всех внешних практически-технических успехах, достигнутых благодаря прежним великим научным открытиям, эти науки, по существу, уже более ста лет не развиваются, что и составляет главную проблему. С одной стороны, имеется внешнее многообразие научно-технических достижений, с другой же стороны, эти достижения нередко вступают в противоречие друг с другом и дают в руки людей технические средства двоякой направленности. Эти технические средства вроде как помогают человечеству выжить, но они могут оказаться и средством даже уничтожения человечества именно потому, что современные эмпирические науки представляют собой весьма раздробленные знания, пускаемые в технический оборот независимо друг от друга. Какое же суммарное итоговое воздействие на среду нашего обитания и на нашу собственную жизнь, особенно в связи с техническими успехами «генной инженерии», произведут эти частичные знания, никто не знает и знать не может.
— Да, но здесь мы переходим уже, скорее, к последствиям тех или иных современных научных достижений не для самого научного сообщества, а для общества в целом, некоторой стороной которого является это научное сообщество…
— Главное, на что я хотел указать: при видимом весьма бурном научном прогрессе на деле в последние сто лет мы этого прогресса не имеем. Поэтому неудержимо накапливаются теоретические проблемы самих эмпирических наук и связанные с этими науками практические проблемы. Очень хорошо, что они накапливаются, так как они всё настойчивее и неотвратимее требуют для своего разрешения того, о чём мы говорили — строго теоретической формы всего эмпирического знания в целом и в каждой его специальности, ибо эти острейшие проблемы не могут быть решены без этой уже неэмпирической формы.
— Что же тогда из себя представляет научное сообщество как субъект нравственности, с точки зрения классической философии?
— В лице своих наиболее крупных представителей, в которых научное сообщество существует для себя, оно ставит перед собой вопрос: «Что я должен делать, а чего я не должен делать как учёный ради того, чтобы не навредить человечеству, а, наоборот, помочь ему достичь хоть какого-то благополучия?». Вот что такое этот нравственный субъект.
— То есть наиболее выдающиеся учёные сознают свой долг перед человечеством именно в отношении своей исследовательской деятельности?
— Да, всю проблематичность этой деятельности и вызываемые их научными достижениями проблемы они, разумеется, осознают и это сознание не даёт им спокойно спать.
— Стало быть, научное сообщество и есть такое содружество людей, которые всячески способствуют друг другу в осознании этих проблем и некоторым образом даже в создании этих проблем, а впоследствии — в их разрешении?
— Конечно! Всё идёт так, как шло и будет идти всегда, — через лица, персонифицирующие это сообщество. Но в том-то всё и дело, что после того, как ушёл Альберт Эйнштейн или, если говорить о нашей стране, ушли Лев Ландау и Пётр Капица, голоса лиц такого масштаба уже некоторое время не звучат. Последний, кто трагически погиб на этом нравственном посту и своей смертью после Чернобыльской аварии выразил всю остроту этих проблем и неотложную необходимость их сначала теоретического, а затем и практически-технического решения, был академик Валерий Легасов.
Научное сообщество России
— Вы, я знаю, посвятили немало сил изучению наследия Иоганна Готлиба Фихте. Насколько, на Ваш взгляд, применим к современному высшему образованию России тот упрёк, который сделал Фихте образованию немецкого народа своей эпохи и который состоял в том, что университеты сами по себе не способны выпускать людей нравственных, а если люди и выходят из стен этих университетов нравственными, то помимо полученного ими высшего образования?
— Это — та проблематика, которая обсуждалась в Германии в начале XIX века и привела к основанию в Берлине первого современного классического университета, получившего название университета «гумбольдтовской модели», которая так или иначе распространилась по миру. Фихте, насколько я знаю, в отличие от самого Гумбольдта, принимал активное участие в обсуждении организации такого рода высшей школы учёных. Его, в некотором смысле, последователь Шеллинг тоже принимал активное участие в этой чрезвычайно важной дискуссии. Но, как всегда, в реальности получилось нечто среднее — во всяком случае, не то, что предлагали эти великие философы, а то, что оказалось связанным с именем как раз одного из братьев Гумбольдтов. Однако то, что великий немецкий философ Фихте принимал непосредственное участие в обсуждении того, каким должно быть по-настоящему современное высшее образование всех учёных, делает эту проблему не узко-немецкой, но всеобщей. Не случайно фихтевское предложение положить в основу университетского образования всех специалистов-учёных именно философское образование неофициальным путём было реализовано в российских университетах того времени.
— В начале XIX века?
— Да, в первая половина XIX века ознаменовалась расцветом сперва Московского, а затем и Петербургского университетов. Этот расцвет вызван деятельностью таких прекрасно разбиравшихся в немецкой классической философии людей, как Грановский и Станкевич, положивших в основу своей университетской деятельности именно высшие достижения философской мысли. Герцен, учившийся на медицинском факультете Московского университета, в «Былом и думах» оставил об этом прекрасные воспоминания. Получается, что таким образом именно мы переняли от немцев эстафету в области философского воспитания и образования учёных. В некотором смысле, именно с этим связан расцвет российской науки в XIX и вплоть до первой половины XX века, когда закончил действовать Вернадский, выпускник Петербургского университета. Это произошло, как я сказал, неформальным образом: философские факультеты то открывались, то закрывались русским правительством, что не сильно меняло ситуацию, потому что эта прививка немецкой философской классики, приведшая к появлению как раз в высшей степени совестливой русской научной интеллигенции, объясняет историю отечественного научного сообщества, где до сих пор не заглохло это эхо, хотя и может показаться, что оно совсем заглохло.
— Однако, в целом, эта идея Фихте о том, что нет настоящего образования без образования нравственного…
— И, прежде всего, философского…
— …которое он от нравственного не отделял?
— Да, не отделял. Философское образование и есть форма нравственного воспитания всех учёных как членов единой корпорации, представляющих науку как таковую, а не только свою специальную науку и, тем более, не свои личные интересы и амбиции.
— Под нравственностью же понимается не чтение нотаций о том, что хорошо быть хорошим…
— Не морализаторство, конечно.
— Насколько я понимаю, речь здесь идёт о том, что учёный познаёт, что из себя представляет нравственное как таковое? Он познаёт это теоретически: познаёт, что такое воля и что такое её предмет?
— Нет, он просто в ходе своего философского образования сознаёт себя членом этого единого, вначале студенческого, а затем научного и всечеловеческого братства.
— Осознаёт, даже не читая специальных научных трудов на эту тему?
— В том-то и дело, что это — единый нравственный дух, который здесь действует чисто-практически. «Я студент и выпускник Московского университета. Значит, я брат всем учёным, брат всему человечеству и обязан ему служить», — заявил Антон Павлович Чехов и поехал на Сахалин, изучать положение каторжников! Такие публично хотя и редко, но всё же произносимые слова есть выражение этого высокого духа — той самой закваски, которая проникла через границу вследствие повального увлечения русского дворянства первой половины XIX века Шеллингом и Гегелем. Когда же наше дворянство стало поставлять своих представителей в учёное сословие, эта немецкая «зараза» подействовала.
— Стало быть, читать и изучать что-то студент должен, но не обязательно труды вроде «Метафизики нравов» Канта или «Философии духа» Гегеля, где в том числе развивается и понятие нравственного. Нет, он должен изучать философию, и чем больше он будет изучать саму философию, даже не изучая сущности нравственного, и будет делать это в содружестве с другими людьми, которые также будут изучать её, тем больше он будет проникаться этим единым самосознанием себя как учёного?
— Да, конечно, хотя, наверное, он как-то зацепит и «Критику практического разума» Канта, и «Философию духа» Гегеля.
— Значит, это косвенное осознание: ты изучаешь нечто иное, нежели только понятие нравственного, но изучая это иное, ты, подобно Чехову, это понятие нравственного всё более находишь для себя?
— Разумеется!
Об активности российских учёных и классической философии
— В конце апреля этого года в Социологическом институте РАН в Петербурге состоялся круглый стол на тему: «Существует ли в России научное сообщество?». Среди прозвучавших там тезисов был и такой: научное сообщество России существует, но оно разобщено, в том числе, по той причине, что учёные пассивны. Что могла бы дать классическая философия для того, чтобы отечественные учёные стали активнее?
Это ведь социологи как эмпирические учёные так заключают. Они видят только то, что можно видеть через их специальные социологические методы и приёмы анализа научного сообщества. Что же до того, что современное российское научное сообщество представляет собою в действительности, а не только по эмпирическим измерениям, то это не может быть выявлено иначе, как по результатам деятельности этого сообщества. Насколько я понимаю, оно более других сообществ (например, медиков или рабочих) находится в состоянии видимого кризиса и разобщённости, которое, с одной стороны, делает их пассивными, но, с другой, — потенциально по-настоящему активными в истинном направлении. Они пассивны там, где не решается проблема соединения усилий всех учёных на единой философской основе ради той самой высокой цели, о которой у нас уже шла речь — ради благополучия человеческого рода, причём благополучия, понятого не в узко-материальном смысле, но как нахождения способа разрешения существующих противоречий, а не их нарастания и углубления. С этой точки зрения, они свою энергию даром не тратят и совершенно правильно не бунтуют впустую, а занимаются, как могут, своими специальными делами.
— Я правильно понимаю: наши учёные потенциально активны именно в том, чтобы, в конечном итоге, придать теоретическую форму пока ещё эмпирической науке?
Да, конечно. Ведь не только нами самими, но и мировым научным сообществом всегда признавалось, что в нашей стране фундаментальная подготовка учёных на голову превосходит подготовку учёных за рубежом, где вообще нет их фундаментальной подготовки. Почему её там нет? Нет её там как раз потому, что там нет единой научной подготовки учёных различных специальностей, производной от философского сознания фундаментального единства всех наук.
— Проблема сегодняшних российских учёных состоит и в следующем. Учёный вообще, по своему понятию, — это тот, кто познает нечто, чего не познают другие люди. Сегодня же в нашей стране деньги на науку отчисляются людьми, которые в этой науке разбираются гораздо хуже, чем те, которым эти деньги нужны, а те люди, которые разбираются в науке, как следует, не имеют доступа к решению того, сколько на неё выделять денег. Как разрешить это противоречие? Может ли решить его кто-либо иной, помимо самих учёных, которые должны что-то здесь активно предпринять, причём предпринять не в смысле каких-то петиций государству, до которых этому государству, видимо, нет дела, но что-то более энергичное? Что могла бы дать классическая философия для того, чтобы эта энергия была выработана?
— Единственное, что классическая философия может дать, если её изучить, это сознание единства интересов всего научного сообщества — единства различных интересов, вызванного фундаментальным единством всех наук. Поэтому речь не о том, чтобы решить, кому денег надо дать больше, а кому — меньше, а именно о сознании всеобщего единства интересов учёных, и когда такое сознание ими будет достигнуто, никакой проблемы с финансированием науки не будет. В связи с этим мне приходит на ум недавнее выступление Президента России о необходимости совершить прорыв, прежде всего, в научно-технической, стало быть, и в социальной, экономической и так далее областях государства российского. Хотя Президент, возможно, имел не это в виду, но, на мой взгляд, он говорил именно о том, о чем говорим сейчас мы с Вами. Такой настоящий прорыв, который оставит позади всё то, что делается в области науки и техники в других странах, без единой философской основы всех научных исследований не совершится, поскольку для этого требуется не какое-то случайное открытие, а необходимое действие всех наук вместе.
— Тогда, следовательно, этот прорыв не совершится ни через месяц, ни через пять лет. Это вопрос, по крайней мере, одного-двух поколений. Преобразование социального положения учёного в нашей стране — это вопрос не пяти лет, и петициями его не решить?
— Конечно! Президент как раз и сказал: «Мы, конечно, ещё двадцать-тридцать лет могли бы как-нибудь протянуть, но, если мы не сделаем этого прорыва, то мы непременно и навсегда отстанем». Ведь всё дело в том, что эти двадцать-тридцать лет нужно не тянуть, сидя сложа руки, а решительно действовать в направлении, о котором мы тут говорим, и тогда научные, экономические, финансовые и все прочие плоды этого действия не заставят себя ждать. С неба эти плоды не свалятся, а случайные научные открытия тут не помогут, ибо они могут случиться, а могут и не случиться.
— Однако иные на это возразят: «Сегодня за рубежом, тем не менее, без всяких прорывов учёные живут гораздо лучше, чем у нас. Почему бы нам не сделать так, как у них?».
— Но за рубежом сложилась совсем другая социально-экономическая система обеспечения наук! Кроме того, зарубежную науку никто так круто не ломал, как была сломана отечественная наука за последние двадцать пять лет. Поэтому у них так хорошо, как только у них и может быть хорошо. У нас же было сказано: «У нас было не так, как у них, а теперь пусть станет, как у них». Да за рубежом всё это триста лет органично растёт, а у нас разве может вырасти при совсем других предпосылках за тридцать лет? Ни в коем случае.
— Значит, если мы хотим, чтобы у нас стало, как у них, мы сами себе противоречим: мы говорим, что наша наука не как у них и как у них она быть не может, а деньги мы хотим на науку те же, что у них?
— Ясное дело, что это никак невозможно.
— В таком случае, развитие единого самосознания научного сообщества произойдёт только при возвращении нашем на столбовую дорогу развития именно нашей науки?
— Да, не иначе. О классическом философском начале этого нашего развития мы уже говорили.
Об отношении научного сообщества и государства
— Каково, с точки зрения классической философии, отношение научного сообщества к государству?
— Поскольку государство есть сознательное единство народа, а самым сознательным сословием народа учёные являются уже по определению, постольку отсюда вытекает глубокая, существенная заинтересованность учёных в сохранении и развитии этого сознательного государственного единства народа. Поэтому учёный, хочет он того или нет, является государственным человеком не в меньшей, а даже, в некотором смысле, в большей степени, чем военный и чиновник. Ведь учёный не только, как военный, в каких-то критических ситуациях должен, не колеблясь, отдать государству свою жизнь, и не только, как и хороший чиновник, должен отдать государственной службе целый отрезок своей жизни без остатка — учёный постоянно, день и ночь жертвует всей своей жизнью ради этого целого. Настоящая наука есть отнюдь не синекура, как Вы хорошо знаете. Соответственно, и государство наше должно по взаимности заботиться о сословии учёных не хуже, но даже лучше, чем оно сейчас заботится о сословии военных и чиновников.
— В этом смысле противопоставление учёных государству, к которому они приходят к нему как бы извне, из науки, и просят: «Дай нам денег, государство!», является логически неверным?
— Разумеется! Современное государство без государственного сознания народа существовать не может, а важнейшая для государства сфера воспитания и образования его граждан без науки вообще не действует. Кроме того, поскольку самому государству необходимо действовать сознательно, так как иначе всё в нём расползается и ставится на острие случайности, постольку без всесторонней строго-научной экспертизы не должно приниматься ни одно государственное решение.
— Да, так должно быть…
— На деле так оно и есть, а если не есть, то это значит, что государство — не истинное государство. Наше государство вот уже четверть века назад ложно объявило себя, а заодно науку вместе с медициной и образованием принадлежащими к сфере услуг, извините меня, подобно баням и парикмахерским салонам, которые, как и торговля, действительно принадлежат к этой сфере. Однако ясно, что «государство», которое уподобляет себя торговому предприятию, не может искоренить коррупции, от которой материально и нравственно страдают все, в том числе и оно само.
— Сегодня говорят, что люди во власти мало интересуются наукой. Но ведь во власть, как правило, проходят выпускники лучших вузов страны. Как же получается, что научное сообщество готовит таких людей, которые, когда занимают место во власти, говорят ему «нет»?
— Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой: раздрай между чиновничеством и наукой возник из-за того, что характер университетского образования, который в своё время был налажен так, как нужно, настолько выдохся ныне, что различные факультеты университетов не сознают своего фундаментального единства друг с другом, а их выпускники — с наукой как таковой.
— Когда же этот характер был налажен? Сейчас во власти то поколение, которое получало своё образование в Советском Союзе…
— Но почему был развален сам Советский Союз? Потому, что высшее образование под конец его существования стало парцеллярным, раздельным — фактически точно таким же, как на Западе: один факультет не видит другого, не знает другого и знать не желает, а юристы, представляя их исключительно формальное единство, заправляют всем с позиций внешней рассудочной целесообразности, которая как неразумная чревата безрассудством. По их вине и случилась эта величайшая геополитическая катастрофа нашего времени.
— Здесь снова сказывается эмпирический характер тех наук, которые мы изучаем в университетах?
— Да, совершенно верно! Тот припадок технократизма, который мы переживаем, есть результат вырождения современной эмпирической науки в «технонауку». Оно началось не вчера, и с продуктами этого далеко зашедшего вырождения мы сегодня вынуждены иметь дело.
— Стало быть, в некоторых зарубежных странах, хотя образование там не менее, а даже более эмпирическое, чем у нас…
— Да, но оно органично для западного духа.
— А поскольку у них исторически так складывалось, органично и без разломов, в отличие от нас, то…
— Да, там всё в государстве и в науке образует систему сдержек и противовесов — типичную механику и технику. Это органично для западных государств, которые есть отлаженные машины для осуществления господства немногих под прикрытием формальной, количественной демократии, для нашего же государства это совершенно не органично и потому вредно.
— В какое же время в России началось разобщение между чиновниками и учёными? Ведь в начале истории Советского Союза было время, когда власть очень негативно относилась к университетам, заставляя их делать то, что сами по себе университеты делать никогда бы не стали: прежде всего, обязательно принимать к себе представителей определённых социальных слоёв и так далее.
— Нет, известно, что все усилия Ленина, когда он опомнился от политики военного коммунизма, были направлены на то, чтобы образумить своих партийных товарищей от негативного отношения к старым специалистам, которые ещё не уехали из революционной России. Ленин прекрасно осознавал, что ничего (тем более, ничего превосходящего западный капитализм) в такой отсталой крестьянской стране на ненаучной основе построить нельзя. Именно поэтому он настоял на том, чтобы, несмотря на огромные финансовые трудности того времени, озолотить «спецов», купить их за высокую цену и тем поставить их на службу новой власти, а острый недостаток этих специалистов компенсировать массовым приёмом молодёжи в университеты и институты, где эти специалисты как раз и преподавали, передавая ей дух настоящей науки. Тогда была совершенно противоположная установка и понимание того, что без самой передовой науки, основанной на самой передовой философии, которая возьмёт у немецкого классического идеализма самое лучшее, что у него есть — логический метод, не может существовать социализм как самый передовой строй на земле.
— Поэтому в течение советского периода был какой-то отрезок времени, когда университеты готовили именно таких чиновников, которых, согласно самому понятию университетов, они и должны были готовить? Что это было за время?
— Это были тридцатые годы прошлого века и всё сделанное за это короткое, но чрезвычайно напряжённое время прошло проверку Великой Отечественной войной. То, что в считанные месяцы в тяжелейших военных условиях всё производство было перебазировано из европейской части страны на Урал и за Урал, сходу налажено и к 1944 году наша промышленность достигла материально-технического превосходства над Германией, на которую работала вся Западная Европа за исключением Великобритании, а после войны был достигнут военно-технический паритет с США, находившихся, в отличие от нас, в самых благоприятных экономических и политических обстоятельствах, есть для качества образования и государственного управления проба самая суровая и высшая.
— То есть, по крайней мере, в тридцатые-сороковые годы двадцатого века такое взаимопонимание было…
— Да, и в пятидесятые, пока не выдохся этот высокий патриотический дух сознательного единства народа и государства, который привёл нас к Победе. Его последним плодом была так называемая «оттепель», а на деле вечная весна, когда наши учёные и рабочие совершили космический прорыв, заставивший американцев признать наше образование лучшим в мире.
О богатстве учёного
— Каково отношение учёного к богатству? Каково отношение учёного к деньгам?
— Богатство богатству рознь. Материальное богатство для учёного есть условие для каких-то специальных дорогостоящих экспериментов, а главное богатство, которого не хватает современной науке, есть духовное богатство самого себя сознающего духа, который имеет свою высшую форму в философии.
— Тогда спрошу определённее: каково отношение учёного именно к материальному богатству? Выделяется ли в этом отношении учёный из всех прочих людей?
— Конечно, выделяется.
— Да, по крайней мере, с точки зрения античности, он постольку выделяется, поскольку материальное — это только средство, а учёного как квинтэссенцию человечности в по-античному понятом государстве Платона и Аристотеля интересует только его добродетель, то есть его нравственное и интеллектуальное совершенство, если следовать Аристотелю. Эта точка зрения до сих пор верна и будет верна вечно, так?
— Конечно! Вот характерный пример отношения к материальному богатству у Сократа, который однажды попал на рынок и, как известно, сказал: «Сколько же здесь совершенно ненужных вещей!». Так он выразил принцип, в силу которого множество, особенно количественное, не интересует настоящего учёного, ибо его интересует только единство, или всеобщее, и все его думы сосредоточены лишь на нём. Что же касается того, что необходимо для его размышлений о едином из области качественного и количественного множества, то всё это для него не так существенно. Когда Лев Ландау попал в тяжелую аварию, врачи, чтобы проверить, насколько сохранилась его память, спросили у него: «Помните, что Вы сегодня ели?». — «Какое это имеет значение? — говорит Ландау. — Я помнить этого не собирался и не собираюсь. Нравится — ем, не нравится — не ем, а ещё думать об этом…».
— Высказываемая Вами точка зрения понятна российскому учёному. Но тут есть некоторая крайность, которая состоит в отрыве духовного от материального. Мол, учёный занимает полюс сугубо духовного. Однако так всегда бывает с крайностями: как только ты в одну из них входишь, тебя резко начинает клонить в другую…
— Нет, мы же не об этом говорим. Все жалобы современных учёных на своё материальное состояние вызваны не тем, что им нечем прикрыть своё голое тело и нечего есть, но тем, что им не на что делать свою науку. Это — правильная забота, ибо учёный потому и учёный, что он занят наукой и ему необходимо делать её посредством чего-то. Что же до того, чем питаться, как одеваться и где жить, то он, разумеется, не должен отвлекаться от науки ради всего этого…
— Не должен, но отвлекается…
— …а если и отвлекается, то, опять-таки, он заботится о том, чтобы он продолжал быть учёным, а не рыскал, как голодный волк, в поисках пропитания.
— Не является ли более определённым выражением отношения учёного к богатству то, что оно есть для него некоторая сторона соразмерной жизни? Даже не богатство, а такой материальный достаток, который помогал бы его жизни быть соразмерной?
— Мне кажется, что, отвечая на этот вопрос, я ничего нового не скажу.
— Вы имели в виду то же самое?
— Нет, я имел в виду не то же самое. Я имел в виду то, что сказал. Поясню примером такого по-настоящему крупного учёного, как Н. В. Тимофеев-Ресовский. На его научный семинар («трёп», как он сам его весело называл) на Южный Урал со всей страны приезжали молодые биологи в большой радости от того, что могли с ним общаться и воспитываться в этом общении как учёные. Никогда, вспоминают участники этих семинаров, он, индивидуально беседуя с тем или иным молодым учёным, не спрашивал о том, женился ли он, на ком он женился, как он живёт, отдыхает и т. д. Всё это Тимофеева-Ресовского ничуть не интересовало. Главным для него было одно — то, как у молодого человека идёт наука. Всё же остальное, как говорится, приложится. Оно есть необходимое и, в некотором смысле, гарантированное приложение к труду учёного. Всё нужное учёному как человеку никуда не денется и придёт к нему, если он по-настоящему занят наукой. Весьма удачная, насколько мне известно, личная жизнь Д. С. Лихачёва, А. А. Любищева и Н. В. Тимофеева-Ресовского, сложившаяся вопреки всем трудностям времени, когда они жили, тому прекрасный пример и порука.
О будущем российского научного сообщества и классической философии
— В чём состоит необходимость классической философии для дальнейшего развития отечественного научного сообщества?
— Необходимость освоения для этого выдающихся достижений классической философской мысли состоит в том, что история философии от Фалеса и Парменида до Гегеля включительно есть всеобщая основа развития науки. Этим определено значение классической философии, т. е. тех разумных результатов, которые были достигнуты великими философами на историческом пути её развития, обеспечившем и развитие эмпирической науки. Но на пути реализации этой необходимости встают два главных препятствия, способность преодоления которых исподволь созревает в современном отечественном научном сообществе. Первое препятствие — то, что историческое развитие единой философии выступает в виде множества различных философских учений, и единство философии как логической науки, изучая которую, только и можно научиться мыслить разумно, находится в глубине этого развития. Для того, чтобы овладеть результатами этого единого процесса развития, необходимо научиться не поддаваться эмпирической видимости раздробленности единой философии на различные философские учения. Второе препятствие — отсутствие достаточного количества по-настоящему философски образованных преподавателей, которые могли бы помочь будущим учёным-специалистам овладеть процессом и результатом развития классической философской мысли. Чтобы преодолеть первое из названных препятствий, необходимо подготовить достаточное количество таких преподавателей. При этих двух условиях будущее мировой науки будет обеспечено, прежде всего, в лице нашего научного сообщества. Соответственно, за эти двадцать-тридцать лет нам нужно решить эти две основных задачи.
— Рецепт понятен: необходимо воспитать этих философски образованных преподавателей…
— …которые несли бы с собой единство философского знания всем обучающимся на всех факультетах наших университетов.
— Причём их необходимо самим воспитать, поскольку искать их негде.
— Да. Значит, прежде всего, требуется реформа нашего специального философского образования. Затем необходимо провести реформу университетского образования вообще путём включения в него обязательного освоения всеми будущими специалистами этой единой философской основы научного образования.
— Что ж, двадцать-тридцать лет — это время как раз требуется для подготовки пары поколений таких преподавателей философии.
— Конечно. Я считаю, что это — вполне решаемая и, кстати, отнюдь не дорогостоящая проблема, поскольку мне, например, ясно, как их готовить. Однако прежде нужно убедить философскую, а затем и широкую научную общественность в том, что это необходимо.
— Но эта задача как раз и может оказаться одному человеку не по плечу! Возможно, здесь лучше действовать какими-то другими путями…
— Возможно.
— Большое спасибо за интервью, Андрей Николаевич!
— Спасибо и Вам за вопросы. Надеюсь, что познакомиться с ответами на них будет небезынтересно и полезно не только будущим учёным, но и руководителям нашего высшего образования, поскольку от них непосредственно зависит его дальнейшее развитие и, стало быть, тот прорыв в будущее нашей страны, о котором говорит Президент России.